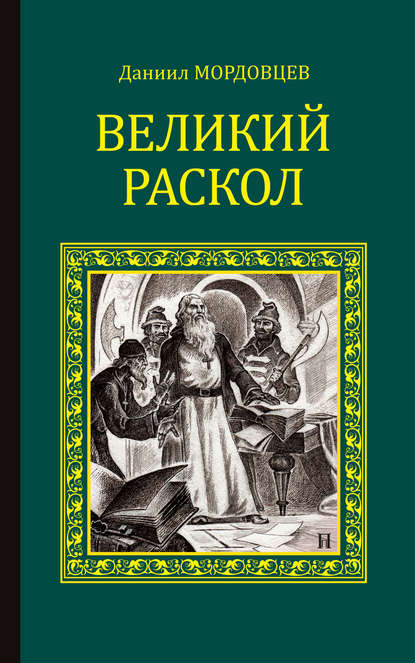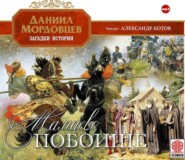По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Великий раскол
Автор
Год написания книги
1878
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Спира воинская… взять меня хотят, яко Христа в саду Гефсиманском, – сказал он, вставая во весь свой рост. – Слуги Анны и Каиафы идут за мною[6 - Евангелие от Иоанна (18: 13–24).].
Разин также вытянулся и выхватил из-под полы кафтана огромный нож.
– Что это? – тревожно спросил Никон.
– На бояр, – сипло отвечал гость.
Никон вздрогнул.
– Нет, не буди Петром… вложи нож… Всяк, иже нож изъемлет, от ножа погибнет, – торопливо говорил патриарх.
Разин был страшен. Казалось, что волосы на голове у него ходили – так двигалась кожа на его плоском, широком черепе.
– Вложи нож, Степан, вложи! – повторил Никон, слыша шум в сенях.
Разин спрятал нож.
– Так к нам на Дон – мы не выдадим, – сказал он угрожающим голосом, – мы их разэтак…
В дверях показалось иконописное лицо Одоевского, а за ним харатейный лик дьяка Алмаза Иванова.
– Анна и Каиафа, – громко сказал патриарх, откидывая назад голову, – кого ищете? Се аз есмь…
– Комедиант! – проворчал про себя Алмаз Иванов. – Эки действа выкидывает.
Но, увидав лицо Разина, замолчал и попятился назад, к дверям, откуда высовывались бородатые лица стрельцов.
– Иди с Богом, сын мой, – сказал Никон, благословляя Разина. – Помолись обо мне.
Разин вышел, косо посматривая на стрельцов и меряя их с головы до ног своими большими глазами.
– Эки буркалы, – проворчал один стрелец со шрамом через всю щеку. – Н-ну глазок!
V. Аввакум и боярыня Морозова
Боярыня Морозова, которую мы видели в беседе с Аввакумом и которую беседа эта так сильно потрясла, принадлежала к самой знатной боярской семье в Москве. Она была снохою знаменитого боярина Бориса Морозова, того Морозова, которого Тишайший царь считал не только своим «приятелем», но почитал «вместо отца родного». Со своей стороны и Борис «сему царю был дядька и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей, день и ночь не имея покоя». А боярыня, молодая скромница Федосьюшка, была что глазок во лбу у этого царского пестуна и кормильца: Федосьюшка, вышедши на семнадцатом году замуж за Глеба, брата Борисова, недолго жила с мужем, который умер в молодых летах, оставив после себя единственную отраду молодой вдове – сынка Иванушку. На этом-то Иванушке и на его молоденькой матери пестун царский и сосредоточил всю свою нежность. Любили молодую боярыню и при дворе: и ласковый царь отличал ее перед всеми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла в «леповиде и лепослове» Прокопьевне – молодая боярыня действительно была «леповида» – существо необыкновенно миловидное – и «лепослова» – потому что она была умна, много читала и прекрасно говорила «духовными словесы».
Но нерадостна была в то время жизнь молодой боярыни. Еще с мужем она могла чувствовать некоторую полноту жизни; при муже она была менее отчуждена от мира, менее казалась затворницей. А вместе со вдовством для нее наступала как бы жизнь без жизни, бесцельное прозябание и преждевременное старчество.
Громыхание посуды от утра до вечера, звон ключей от зари до зари, плетенья да вязанья, беседы с ключницами да мамушками и – как верх эстетического наслаждения – пение песен сенными девушками – вот вся жизнь боярыни, каков бы ни был ее темперамент, каковы бы ни были годы и ее личные стремления.
Но не для всех женских характеров такая жизнь дает полное духовное удовлетворение… Морозова была из таких женщин, для которой громыхание золотой и серебряной посуды да звон ключей не составляли идеал жизни, – и она искала большего, более ценного для ума и сердца, чем золото. Богатые духовные силы ее требовали духовной работы; горячее молодое сердце искало любви не к одному сынку Иванушке, который еще был так мал, – искало борьбы, самопожертвований, идеалов. А идеалы она знала только по книгам – идеалы святителей, мучеников, высокие образцы христианской любви. Кругом себя и во дворце она видела только будничную сторону жизни, внешние дрязги этой жизни, несмотря на ее блеск и роскошь, – и везде она чувствовала пустоту. Пустоту эту, как червоточину, она чувствовала и в себе, в своем сердце. Чтобы задавить этого червяка в душе, залить пустоту, в которой чахло ее теплое, отзывчивое сердце, – она вся окунулась в наслаждение своим богатством, своим высоким положением. Она окружила себя блеском и роскошью. Она поставила свой дом, и без того пышный, гремевший на всю Москву, поставила на царскую ногу; одной ей, ее прихотям услуживало в доме до трехсот человек прислуги; одно мановение ее беленькой ручки, игравшей жемчугами да яхонтами, приводило в движение всю эту ораву челядинцев, которые стремглав спешили исполнить волю и прихоть, какова бы она ни была, своей доброй, ласковой, сердечной боярыньки-света. Когда она выезжала из дому в своей богатой, «драгой и устроенной мусиею и сребром и с аргамаки многими» карете, запряженной двенадцатью лошадьми, «с гремячими чепьми», то за нею следовало «слуг, рабов и рабынь» сто, двести, а то и все триста, «оберегая честь ее и здоровье», а народ бежал толпами, хватая на лету алтыны и копейки, которые выбрасывала в окно кареты маленькая ручка боярыни. Сам Тишайший царь, встречаясь иногда с блестящим поездом своей «пучеглазенькой Прокофьевны», как он называл Морозову, приветливо ей кланялся, снимая свою шапку-мурманку. А бояре и князья так издали сымали шапки и кланялись ей в пояс, стараясь хоть мельком взглянуть в блестящие из-под фаты глаза красавицы.
Но и это не удовлетворило ее, не наполнило ее души довольством, не заняло пустоты, в которой сохло ее молодое сердце. Она искала идеала… Одно время ей думалось, что она нашла этот идеал человека: то был Никон. В своем гордом удалении от царского и святительского блеска, в своем вольном изгнании он казался ей мучеником. Вся его прежняя жизнь – от босоножия, когда маленьким Никиткой он голодал и зяб без лаптей на морозе, до святительского клобука и посоха Петра митрополита, когда Никитка, ставший патриархом Никоном и «великим государем», гремел с амвона на истинного великого государя, – вся эта жизнь представлялась ей в ореоле и величии апостольства. Но когда, после неоднократных тайных посещений его в Воскресенском монастыре и после продолжительных бесед с ним, она нашла в нем сухого эгоиста и самолюбивого, властолюбивого и мстительного черствеца – она горько оплакала этот мираж своего идеала.
И вдруг судьба столкнула ее с Аввакумом. Этот мощный ум, эта несокрушимая воля, хотя, по-видимому, мягкая и тягучая, как золото, в делах добра и железная в других случаях, эта великая, страстная, но детски наивная вера не только во всепроникаемость Божественной любви и всепрощения, но и в обряд, в букву, в последнюю йоту веры – все это глубоко потрясло восприимчивую душу молодой, пылкой женщины. Ей казалось, что она очутилась лицом к лицу с апостолом, мучеником, с тем первообразом и идеалом истинного человека, которого она в своей пылкой фантазии видела в фиваидских пещерниках, в столпниках, в обличителях нечестивых римских царей. Разве Сибирь – не та же страшная Фиваида, над которой она задумывалась при чтении житий святых? Разве сибирские земляные тюрьмы – не те же языческие узилища? А он, Аввакум, по всему этому прошел – прошел босыми ногами по льду и по горячим угольям. И он не очерствел, не застыл в своем высокомерии, как Никон; он молился, и плакал, и радовался своим страданиям, да мало того – каждый день молился за других, часы и заутреню служил, будь то в земляной тюрьме на соломе, в обществе мышей и тараканов, будь то в снежных сугробах, в лесу, на воде, на работах.
– Ох, батюшка-свет! святитель наш! Да как же ты службу-то служил при этих-то трудах да мучениях? – невольно воскликнула молодая боярыня, возвращаясь с сестрой из дворца и захватив с собой в карету своего дорогого гостя.
– А все так же, дочушка моя золота-яхонтова: идучи, бывало, дорогою, зимой, или нарту с детками и курочкой своей волоку, или рыбку ловлю, зверя промышляю, или в лесу дровца секу, или ино что творю, а сам правильцо в те поры говорю, пою молитвы, вечереньку либо заутреньку мурлычу себе, что прилучится в тот час, и плачу, и веселюсь, что жив, что голос мой в пустыне мертвой звучит, птички божьи мое моленье слышут, и за птичек молюсь, и за деревцо – все ведь оно и Божье, и наше… А буде в людях я, и бывает неизворотно, или на стану станем, а товарищи-то не по мне, моления моего не любят, – и я, отступя людей, либо под горку, либо в лесок, – коротенько сделаю: побьюся головою о землю либо об лед поколочусь, об снег, а то и заплачется – и все сладко станет, коли голова об землю поколотится либо слеза горючая снег прожжет. А буде по мне люди – и я на сошке складеньки поставлю, правильца проговорю, молитовку пропою, в перси себе постучу, а иные со мною же молятся, плачут, а иные кашку варят – и тоже маленько молятся. И в санях едучи, пою себе да веселюсь, и в тюрьме лежа, пою да кандалами позвякиваю, а кандальный-то звон, тюремный, светики мои, слаще Богу звону колокольного: звонок, голосист звон-от тюремный!.. Везде, пташки мои, молюсь и пою, а хотя где и гораздо неизворотно, а таки поворчу, что собачка перед Господом, повою до неба праведного…
Аввакум еще более очаровал сестер, когда вместе с ним они из дворца приехали в дом Морозовой. Целые ряды челяди выстроились по лестнице и в сенях и низко кланялись, когда проходили боярыни: иные кланялись до земли; другие хватали и целовали ее руки, края одежды. Аввакум следовал впереди хозяйки, благословляя направо и налево, словно в церкви.
При входе во внутренние покои навстречу боярыне вышла благообразная, бодрая старушка с прелестным белокурым ребенком на руках. Ребенок радостно потянулся к Морозовой, которая с нежностью выхватила его из рук старушки и стала страстно целовать.
– Ванюшка! Веселие мое! Цветик лазоревый!
Затем, как бы спохватившись, она быстро поднесла ребенка к Аввакуму. Щеки ее горели, по всему лицу разлито было счастье.
– Батюшка! Благослови мово сыночка – наследие мое.
Аввакум истово перекрестил ребенка, сунул легонько свою костлявую, загрубелую руку к раскрытому ротику мальчика и, ласково, добро улыбаясь ему, стал гладить курчавую его голову.
– Весь в матушку-красавицу, токмо русенек – беляв волосками гораздо… А подь ко мне на ручки…
И протопоп протянул к ребенку растопыренные ладони. Ребенок смотрел на него пристально, с удивлением и, видя улыбку под седыми усами, сам улыбался.
– Подь же к деде на ручки, подь, цветик, – поощряла его мать, вся сияющая внутренним довольством и любуясь добрым, нежным выражением лица сурового учителя.
– Иди-ка, боярушко, иди, миленький! – говорил этот последний.
Ребенок пошел на руки к Аввакуму. Мать вскрикнула от радости и перекрестилась. Перекрестилась и старушка. Все жадно и восторженно смотрели, как ребенок, взглянув в глаза Аввакума, потом обратясь к матери и к нянюшке, стал играть седою бородой протопопа.
– Ай да умник! ай да божий! – ласкал его протопоп. – А Бозю любишь? а? любишь, боярушко, Бозю?
– Маму люблю, – отвечал ребенок, оборачиваясь к матери.
Морозова только руками всплеснула и припала к ребенку, целуя его в плечо и вместе с тем страстно припадая губами к руке Аввакума, лежавшей на этом плече.
– А Бозю любишь? – настаивал Аввакум.
– Няню люблю, – снова невпопад отвечал ребенок.
– А Боженьку? – вмешалась мать, начиная уже краснеть от стыда и волнения. – Боженьку…
– Дуню тетю.
– Ах, господи! Ванюшка!
Аввакум поднес ребенка к киоте, которая так и горела дорогими окладами икон, залитых золотом, жемчугами, самоцветными камнями.
– Вот где Бозя! – сказал он. – Глянь, какой светленький.
Ребенок поднял ручку и стал махать ею около розового личика, прикладывая пальчики то к маковке, то к плечу и глядя на няню: «смотри-де – как хорошо молюсь».
Старушка няня, мать и «тетя Дуня» улыбались счастливо, радостно. Но Аввакум тотчас воззрился на пальчики ребенка: так ли-де, истово ли, мол, переточки складывает, не никонианскою ли-де еретическою щепотью?
– Ну-ко, ну-ко, боярушко, покажь переточки, как слагаешь крестное знамение…
Разин также вытянулся и выхватил из-под полы кафтана огромный нож.
– Что это? – тревожно спросил Никон.
– На бояр, – сипло отвечал гость.
Никон вздрогнул.
– Нет, не буди Петром… вложи нож… Всяк, иже нож изъемлет, от ножа погибнет, – торопливо говорил патриарх.
Разин был страшен. Казалось, что волосы на голове у него ходили – так двигалась кожа на его плоском, широком черепе.
– Вложи нож, Степан, вложи! – повторил Никон, слыша шум в сенях.
Разин спрятал нож.
– Так к нам на Дон – мы не выдадим, – сказал он угрожающим голосом, – мы их разэтак…
В дверях показалось иконописное лицо Одоевского, а за ним харатейный лик дьяка Алмаза Иванова.
– Анна и Каиафа, – громко сказал патриарх, откидывая назад голову, – кого ищете? Се аз есмь…
– Комедиант! – проворчал про себя Алмаз Иванов. – Эки действа выкидывает.
Но, увидав лицо Разина, замолчал и попятился назад, к дверям, откуда высовывались бородатые лица стрельцов.
– Иди с Богом, сын мой, – сказал Никон, благословляя Разина. – Помолись обо мне.
Разин вышел, косо посматривая на стрельцов и меряя их с головы до ног своими большими глазами.
– Эки буркалы, – проворчал один стрелец со шрамом через всю щеку. – Н-ну глазок!
V. Аввакум и боярыня Морозова
Боярыня Морозова, которую мы видели в беседе с Аввакумом и которую беседа эта так сильно потрясла, принадлежала к самой знатной боярской семье в Москве. Она была снохою знаменитого боярина Бориса Морозова, того Морозова, которого Тишайший царь считал не только своим «приятелем», но почитал «вместо отца родного». Со своей стороны и Борис «сему царю был дядька и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей, день и ночь не имея покоя». А боярыня, молодая скромница Федосьюшка, была что глазок во лбу у этого царского пестуна и кормильца: Федосьюшка, вышедши на семнадцатом году замуж за Глеба, брата Борисова, недолго жила с мужем, который умер в молодых летах, оставив после себя единственную отраду молодой вдове – сынка Иванушку. На этом-то Иванушке и на его молоденькой матери пестун царский и сосредоточил всю свою нежность. Любили молодую боярыню и при дворе: и ласковый царь отличал ее перед всеми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла в «леповиде и лепослове» Прокопьевне – молодая боярыня действительно была «леповида» – существо необыкновенно миловидное – и «лепослова» – потому что она была умна, много читала и прекрасно говорила «духовными словесы».
Но нерадостна была в то время жизнь молодой боярыни. Еще с мужем она могла чувствовать некоторую полноту жизни; при муже она была менее отчуждена от мира, менее казалась затворницей. А вместе со вдовством для нее наступала как бы жизнь без жизни, бесцельное прозябание и преждевременное старчество.
Громыхание посуды от утра до вечера, звон ключей от зари до зари, плетенья да вязанья, беседы с ключницами да мамушками и – как верх эстетического наслаждения – пение песен сенными девушками – вот вся жизнь боярыни, каков бы ни был ее темперамент, каковы бы ни были годы и ее личные стремления.
Но не для всех женских характеров такая жизнь дает полное духовное удовлетворение… Морозова была из таких женщин, для которой громыхание золотой и серебряной посуды да звон ключей не составляли идеал жизни, – и она искала большего, более ценного для ума и сердца, чем золото. Богатые духовные силы ее требовали духовной работы; горячее молодое сердце искало любви не к одному сынку Иванушке, который еще был так мал, – искало борьбы, самопожертвований, идеалов. А идеалы она знала только по книгам – идеалы святителей, мучеников, высокие образцы христианской любви. Кругом себя и во дворце она видела только будничную сторону жизни, внешние дрязги этой жизни, несмотря на ее блеск и роскошь, – и везде она чувствовала пустоту. Пустоту эту, как червоточину, она чувствовала и в себе, в своем сердце. Чтобы задавить этого червяка в душе, залить пустоту, в которой чахло ее теплое, отзывчивое сердце, – она вся окунулась в наслаждение своим богатством, своим высоким положением. Она окружила себя блеском и роскошью. Она поставила свой дом, и без того пышный, гремевший на всю Москву, поставила на царскую ногу; одной ей, ее прихотям услуживало в доме до трехсот человек прислуги; одно мановение ее беленькой ручки, игравшей жемчугами да яхонтами, приводило в движение всю эту ораву челядинцев, которые стремглав спешили исполнить волю и прихоть, какова бы она ни была, своей доброй, ласковой, сердечной боярыньки-света. Когда она выезжала из дому в своей богатой, «драгой и устроенной мусиею и сребром и с аргамаки многими» карете, запряженной двенадцатью лошадьми, «с гремячими чепьми», то за нею следовало «слуг, рабов и рабынь» сто, двести, а то и все триста, «оберегая честь ее и здоровье», а народ бежал толпами, хватая на лету алтыны и копейки, которые выбрасывала в окно кареты маленькая ручка боярыни. Сам Тишайший царь, встречаясь иногда с блестящим поездом своей «пучеглазенькой Прокофьевны», как он называл Морозову, приветливо ей кланялся, снимая свою шапку-мурманку. А бояре и князья так издали сымали шапки и кланялись ей в пояс, стараясь хоть мельком взглянуть в блестящие из-под фаты глаза красавицы.
Но и это не удовлетворило ее, не наполнило ее души довольством, не заняло пустоты, в которой сохло ее молодое сердце. Она искала идеала… Одно время ей думалось, что она нашла этот идеал человека: то был Никон. В своем гордом удалении от царского и святительского блеска, в своем вольном изгнании он казался ей мучеником. Вся его прежняя жизнь – от босоножия, когда маленьким Никиткой он голодал и зяб без лаптей на морозе, до святительского клобука и посоха Петра митрополита, когда Никитка, ставший патриархом Никоном и «великим государем», гремел с амвона на истинного великого государя, – вся эта жизнь представлялась ей в ореоле и величии апостольства. Но когда, после неоднократных тайных посещений его в Воскресенском монастыре и после продолжительных бесед с ним, она нашла в нем сухого эгоиста и самолюбивого, властолюбивого и мстительного черствеца – она горько оплакала этот мираж своего идеала.
И вдруг судьба столкнула ее с Аввакумом. Этот мощный ум, эта несокрушимая воля, хотя, по-видимому, мягкая и тягучая, как золото, в делах добра и железная в других случаях, эта великая, страстная, но детски наивная вера не только во всепроникаемость Божественной любви и всепрощения, но и в обряд, в букву, в последнюю йоту веры – все это глубоко потрясло восприимчивую душу молодой, пылкой женщины. Ей казалось, что она очутилась лицом к лицу с апостолом, мучеником, с тем первообразом и идеалом истинного человека, которого она в своей пылкой фантазии видела в фиваидских пещерниках, в столпниках, в обличителях нечестивых римских царей. Разве Сибирь – не та же страшная Фиваида, над которой она задумывалась при чтении житий святых? Разве сибирские земляные тюрьмы – не те же языческие узилища? А он, Аввакум, по всему этому прошел – прошел босыми ногами по льду и по горячим угольям. И он не очерствел, не застыл в своем высокомерии, как Никон; он молился, и плакал, и радовался своим страданиям, да мало того – каждый день молился за других, часы и заутреню служил, будь то в земляной тюрьме на соломе, в обществе мышей и тараканов, будь то в снежных сугробах, в лесу, на воде, на работах.
– Ох, батюшка-свет! святитель наш! Да как же ты службу-то служил при этих-то трудах да мучениях? – невольно воскликнула молодая боярыня, возвращаясь с сестрой из дворца и захватив с собой в карету своего дорогого гостя.
– А все так же, дочушка моя золота-яхонтова: идучи, бывало, дорогою, зимой, или нарту с детками и курочкой своей волоку, или рыбку ловлю, зверя промышляю, или в лесу дровца секу, или ино что творю, а сам правильцо в те поры говорю, пою молитвы, вечереньку либо заутреньку мурлычу себе, что прилучится в тот час, и плачу, и веселюсь, что жив, что голос мой в пустыне мертвой звучит, птички божьи мое моленье слышут, и за птичек молюсь, и за деревцо – все ведь оно и Божье, и наше… А буде в людях я, и бывает неизворотно, или на стану станем, а товарищи-то не по мне, моления моего не любят, – и я, отступя людей, либо под горку, либо в лесок, – коротенько сделаю: побьюся головою о землю либо об лед поколочусь, об снег, а то и заплачется – и все сладко станет, коли голова об землю поколотится либо слеза горючая снег прожжет. А буде по мне люди – и я на сошке складеньки поставлю, правильца проговорю, молитовку пропою, в перси себе постучу, а иные со мною же молятся, плачут, а иные кашку варят – и тоже маленько молятся. И в санях едучи, пою себе да веселюсь, и в тюрьме лежа, пою да кандалами позвякиваю, а кандальный-то звон, тюремный, светики мои, слаще Богу звону колокольного: звонок, голосист звон-от тюремный!.. Везде, пташки мои, молюсь и пою, а хотя где и гораздо неизворотно, а таки поворчу, что собачка перед Господом, повою до неба праведного…
Аввакум еще более очаровал сестер, когда вместе с ним они из дворца приехали в дом Морозовой. Целые ряды челяди выстроились по лестнице и в сенях и низко кланялись, когда проходили боярыни: иные кланялись до земли; другие хватали и целовали ее руки, края одежды. Аввакум следовал впереди хозяйки, благословляя направо и налево, словно в церкви.
При входе во внутренние покои навстречу боярыне вышла благообразная, бодрая старушка с прелестным белокурым ребенком на руках. Ребенок радостно потянулся к Морозовой, которая с нежностью выхватила его из рук старушки и стала страстно целовать.
– Ванюшка! Веселие мое! Цветик лазоревый!
Затем, как бы спохватившись, она быстро поднесла ребенка к Аввакуму. Щеки ее горели, по всему лицу разлито было счастье.
– Батюшка! Благослови мово сыночка – наследие мое.
Аввакум истово перекрестил ребенка, сунул легонько свою костлявую, загрубелую руку к раскрытому ротику мальчика и, ласково, добро улыбаясь ему, стал гладить курчавую его голову.
– Весь в матушку-красавицу, токмо русенек – беляв волосками гораздо… А подь ко мне на ручки…
И протопоп протянул к ребенку растопыренные ладони. Ребенок смотрел на него пристально, с удивлением и, видя улыбку под седыми усами, сам улыбался.
– Подь же к деде на ручки, подь, цветик, – поощряла его мать, вся сияющая внутренним довольством и любуясь добрым, нежным выражением лица сурового учителя.
– Иди-ка, боярушко, иди, миленький! – говорил этот последний.
Ребенок пошел на руки к Аввакуму. Мать вскрикнула от радости и перекрестилась. Перекрестилась и старушка. Все жадно и восторженно смотрели, как ребенок, взглянув в глаза Аввакума, потом обратясь к матери и к нянюшке, стал играть седою бородой протопопа.
– Ай да умник! ай да божий! – ласкал его протопоп. – А Бозю любишь? а? любишь, боярушко, Бозю?
– Маму люблю, – отвечал ребенок, оборачиваясь к матери.
Морозова только руками всплеснула и припала к ребенку, целуя его в плечо и вместе с тем страстно припадая губами к руке Аввакума, лежавшей на этом плече.
– А Бозю любишь? – настаивал Аввакум.
– Няню люблю, – снова невпопад отвечал ребенок.
– А Боженьку? – вмешалась мать, начиная уже краснеть от стыда и волнения. – Боженьку…
– Дуню тетю.
– Ах, господи! Ванюшка!
Аввакум поднес ребенка к киоте, которая так и горела дорогими окладами икон, залитых золотом, жемчугами, самоцветными камнями.
– Вот где Бозя! – сказал он. – Глянь, какой светленький.
Ребенок поднял ручку и стал махать ею около розового личика, прикладывая пальчики то к маковке, то к плечу и глядя на няню: «смотри-де – как хорошо молюсь».
Старушка няня, мать и «тетя Дуня» улыбались счастливо, радостно. Но Аввакум тотчас воззрился на пальчики ребенка: так ли-де, истово ли, мол, переточки складывает, не никонианскою ли-де еретическою щепотью?
– Ну-ко, ну-ко, боярушко, покажь переточки, как слагаешь крестное знамение…