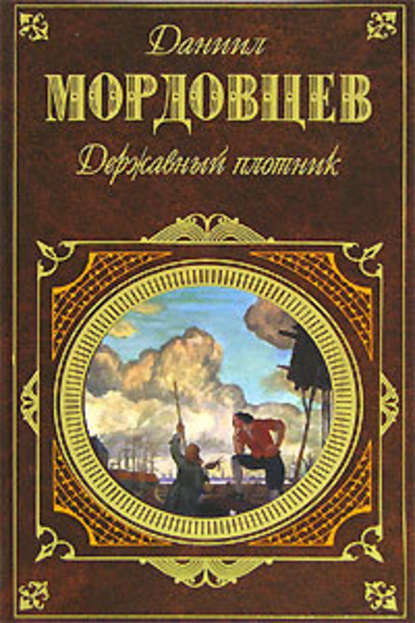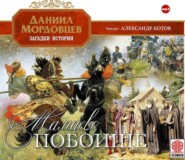По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Стреляйте, детушки, стреляйте! – кричал Никанор. – Да смотрите хорошенько в трубки, где воевода: в него, жирного, и стреляйте, детки! Коли поразим пастыря, ратные люди разойдутся, аки овцы.
Залпы следовали за залпами, ядра взрывали землю и разбивали камни, а стрельцы все надвигались, и все виднее и виднее вырисовывались железные головы стенобитных орудий. Последовал залп и с той стороны. Ядра, как громадные орешины, защелкали по монастырской стене и с визгом отскакивали назад, отбивая куски камней и глины.
– В стяг-от, в стяг зеленый мети, Исачушко-друг! – молил Никанор. – Там воевода.
На стену вынесли запрестольный образ покровителей монастыря. Далеко блеснула золоченая риза и золотые, с самоцветными камнями венцы вокруг темных ликов преподобных Зосимы и Савватия.
Никанор упал перед иконой.
– Святители! Угоднички! Не выдайте своей обители на поругание! – вопил он, ползая перед иконой. – Гляньте-ко с неба сюда! Махните, погрозите перстами святыми на еретиков!
А ядра все гуще и гуще стучат в стены, Исачко ревет на своих пушкарей.
– Дайте, братцы! – закричал он. – Дайте, душу свою вместо ядра и зелья засыплю в матушку!
И он сам зарядил пушку, сам навел ее и грянул. Зеленое знамя упало, словно подкошенное. Взрыв радости огласил стены.
– Стяг упал! Стяг подбили! – кричали пушкари. – Любо! Любо! Еще катай!
Никанор, раскосмаченный, без митры, которую держал служка, бросился кропить и целовать пушку, которая поубавила московский стяг.
– Спасибо! Матушка! Галаночка! Еще угоди, в воеводу угоди, родная!
Новые залпы расстроили передние ряды стрельцов. Стенобитные орудия остановились. Москвичи задумались.
В это время там, где остановились стрельцы, чтобы, немного передохнув, снова двинуться на монастырь, справа, на пригорке, показалась человеческая фигура. Неизвестный шел к стрельцам и что-то показывал им, поднимая руки. Со стены скоро узнали его: это был Спиря, который показывал стрельцам свою скуфью с птичками.
– Смотри-тко, братцы, Спиря! – закричали пушкари. – Ай-ай!
– Он и есть, братцы. Что он задумал?
Московские стрельцы, видимо, обратили внимание на этого странного человека. Все глядели в его сторону. Некоторые побежали к нему.
В это самое время слева, где рос кустарник, как из земли выросли люди. Прикрываясь кустарником, они приблизились на ружейный выстрел к правому крылу московского отряда. И их узнали с монастырской стены.
– Братцы! Да это наши там с казаками! – раздались радостные голоса.
– Наши! Ай да молодцы! В засад пошли...
Действительно, то была небольшая партия донцов вместе с молодыми и старыми монахами из рядовой братии, рыбаков и других трудников. Ярко оттенялись в зелени кустарника черные клобуки и скуфьи.
И вдруг из кустарника раздался ружейный залп. Московские стрельцы дрогнули от такой неожиданности: они сразу поняли, что это засада. Некоторые из них, пораженные пулями, упали. В этот момент и крепостные пушки дали залп.
Косой Исачко и кемлянин Самко распоряжались нарядом. Задымленные пороховой сажей, без шапок, то с банником в руке, то с дымящимся фитилем, они были страшны. Пушкари не отставали от них. Пушки накалились до того, что к ним нельзя было дотронуться.
– Уходят еретики! Уходят! – прошел по стене радостный крик.
– Наутек! Наутек! Улю-лю-лю!
– Святители! – с радостными слезами стонал Никанор.
Черный хор с ревущим Геронтием во главе дребезжал разбитыми голосами и гнусел до самого неба: «Взбранней воеводе победительная, яко избавляшеся от злых...»
– Хвалите Бога, отцы и братие! Кричите до самого престола его! Владыко всесильный!
Приступ был отбит.
IV. СИРОТСКАЯ СВЕЧКА ПЕРЕД ГОСПОДОМ
Странное, удивительное то было время. Маленький островок, едва заметный на карте, ничтожный огорбок, выползший из-под неизмеримых вод Северного Ледовитого океана, крохотная песчинка среди песков морских, Соловецкий монастырь отложился, ушел из-под державы великого неисходимого Московского государства, и московский великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые России, самодержец московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверской, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода низовской земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондинский, витебский, мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь иверския земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинские земли черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель (таков был полный титул Алексея Михайловича, и за прописку хотя единого слова в этом титуле дьяка постигало обычное наказание: «Бить батогом нещадно»), и такой могущественный государь в течение восемнадцати лет не мог подклонить под свою державную руку этого отбившегося от великого российского стада ягненка. Да и не до того тогда было. Повторяем: то было странное, удивительное время.
Эпитет «тишайший», приданный Алексею Михайловичу его современниками, совсем не подходил к характеристике его царствования, полного бурных событий. Он был кроток, набожен, со всеми ласков, с необыкновенно привязчивым сердцем. Он искренно любил Россию, свой народ и всем сердцем желал ему добра, счастия, благоденствия. Его голубиную душу глубоко ценили все его приближенные, с которыми он обходился с отеческою нежностью, и если иногда и наказывал царедворцев за упущения по службе, только не за злоупотребления, то истинно по-отечески: любимое его наказание было купать бояр в пруду. Вот что он сам писал об этом своему стольнику, Матюшкину: «Извещаю тебя, што тем утешаюся, што стольников купаю ежеутре в пруде. Иордан хороша сделана, человека по четыре и по пяти, и по двенадцати человек, за то, кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю; да и после купания жалую, зову их ежедень, у меня купальщики те едят вдоволь, а иные говорят: мы-де нароком не поспеем, так-де и нас выкупают, да и за стол посадят – многие нароком не поспевают...» И царь доволен, тешится, и выкупанные царедворцы довольны, и ни один не простужался, кушая в мокрой одежде, разве что насморк схватит, который послабее... Да что тогда и за насморки были, когда без платка сморкались!.. Таковы были люди, таковы были у них и нервы...
И это-то благодушное царствование благодушнейшего и «тишайшего» государя оказалось самым бурным, роковым для России, государственно и духовно расколовшим ее надвое, на две половинки, которые доселе, через два столетия, не могут спаяться воедино.
Что же это был за клин такой чудовищный, который расколол такое громадное, вековое дерево, как Московское царство, расколол надвое от ветвей и вершины до корня? И где нашелся еще более чудовищный обух, который вогнал этот страшный клин в вековой московский дуб, вогнал так, что расщепил его надвое? Чья, наконец, была та богатырская рука, которая направила сокрушительный обух на московский дуб?
На эти страшные вопросы во вкусе бессмертного Иоаникия Галятовского можно отвечать только в его вкусе, метафорически.
* * *
Великий клин, расколовший Московское царство, был – идея. Идея, в каком бы виде она ни входила в государство, в общество, в семью, всегда входила клином в живое тело и расщепляла его: входила ли она в виде живого слова, проповеди, в виде книги, в виде знания, она всегда и везде одними усваивалась и принималась, другими отрицалась. Принимали ее обыкновенно или почему-либо равнодушные к господствующим понятиям члены государства, общества и семьи, или же члены молодые, юные, для которых господствующие понятия не стали еще делом привычки, чем-то дорогим, своим. Отсюда являлось раздвоение мнений в государстве, в обществе, в семье: отсюда раскол в обширном, историческом смысле слова, разделение на «приемлющих» и на «неприемлющих», на людей «новых» и на людей «старого порядка». Этою идеею во время Алексея Михайловича была книга, и притом печатная, потому что в Москве завелась первая типография, занесенная из Киева, из того места, откуда заносилось в древнюю Русь все лучшее – христианство, просвещение, печать. Прежде всего, конечно, нужно было напечатать самые важные, самые необходимые книги. А таковыми были книги богослужебные. Начали печатать их. Но с какого оригинала наборщикам набирать их? Надо было найти лучшие, правильнейшие оригиналы. Собрали их. Стали сверять, оказались незначительные разноречия, и в иных описки, которые от давности вошли в привычку, как, например, «Исус» вместо «Иисус». Книги сверили с греческими подлинниками, исправили и напечатали. Тогда люди привычки, старые люди, отказались принять новые книги... Клин остановился в дереве, ни взад, ни вперед...
Тогда является обух и бьет по клину. Клин, повинуясь страшной силе обуха, входит в дерево и расщепляет его надвое. Обух этот – Никон: он проклял не приемлющих новые книги... Те ощетинились...
Рука, двигавшая обухом – Никоном, было время: «Приспе бо час»... «Приспе час» и Московскому государству дать у себя место печати, книге, новой идее...
Соловецкий монастырь вместе с прочими людьми старого склада не принял новых книг и откололся от Московского государства. Нашлись было и в этом монастыре «новые люди», молодые попы, которые начали было служить по новым книгам; но их архимандрит велел «сечь плетьми», и они покаялись после вторичного сеченья.
Вскоре и сам Никон, так сказать, «отложился». Оскорбленный невниманием царя, который не иначе прежде называл его как «собинным другом», Никон бросил патриарший престол и ушел в монастырь, показывая на стоявшую в то время на небе комету:
– Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи!
Он заперся в своем монастыре и сидел там ровно девять лет. Потом его судили и «обнажили» высокого святительского сана... «Откололся» таким образом и Никон, но не от новых книг...
Затем через год или два после суда над Никоном Стенька Разин «отколол» от Московского государства всю юго-восточную окраину... Так до того ли было Московскому государству, чтобы думать об отложившемся ничтожном островке на Белом море, о Соловецком монастыре... Вот и сидят себе старцы в своей обители, и поют по старым книгам...
Разина берут и помещают его буйную голову на кол.
Москву очищают от главных вожаков сопротивления новой идее – новым книгам: протопопа Аввакума и других воротил «отколовшегося» московского общества ссылают в Пустозерск.
Остается один Соловецкий монастырь. Покончив со всеми, принимаются и за него. Шлют туда стряпчего Игнашку Волохова с ратными людьми. Черная братия принимает Игнашку в пушки и прогоняет от своих стен.
Шлют стрелецкого голову Корнилишку Иевлева со стрельцами, и его встречают «галаночками» и гонят аки волка из овчарни.
Шлют, наконец, воеводу Ивашку Мещеринова с целою флотилиею, с пушками и стенобитными орудиями. И Ивашку принимают в «галаночки».
После неудачного приступа Мещеринов отошел к своим кочам. А монастырь, усилив караулы поблизости стен и подмонастырного хоромного строения и амбаров, вошел снова в обычную жизненную колею. Но через три дня после приступа случилось обстоятельство, которое послужило началом рокового, трагического исхода «соловецкого сидения».
Залпы следовали за залпами, ядра взрывали землю и разбивали камни, а стрельцы все надвигались, и все виднее и виднее вырисовывались железные головы стенобитных орудий. Последовал залп и с той стороны. Ядра, как громадные орешины, защелкали по монастырской стене и с визгом отскакивали назад, отбивая куски камней и глины.
– В стяг-от, в стяг зеленый мети, Исачушко-друг! – молил Никанор. – Там воевода.
На стену вынесли запрестольный образ покровителей монастыря. Далеко блеснула золоченая риза и золотые, с самоцветными камнями венцы вокруг темных ликов преподобных Зосимы и Савватия.
Никанор упал перед иконой.
– Святители! Угоднички! Не выдайте своей обители на поругание! – вопил он, ползая перед иконой. – Гляньте-ко с неба сюда! Махните, погрозите перстами святыми на еретиков!
А ядра все гуще и гуще стучат в стены, Исачко ревет на своих пушкарей.
– Дайте, братцы! – закричал он. – Дайте, душу свою вместо ядра и зелья засыплю в матушку!
И он сам зарядил пушку, сам навел ее и грянул. Зеленое знамя упало, словно подкошенное. Взрыв радости огласил стены.
– Стяг упал! Стяг подбили! – кричали пушкари. – Любо! Любо! Еще катай!
Никанор, раскосмаченный, без митры, которую держал служка, бросился кропить и целовать пушку, которая поубавила московский стяг.
– Спасибо! Матушка! Галаночка! Еще угоди, в воеводу угоди, родная!
Новые залпы расстроили передние ряды стрельцов. Стенобитные орудия остановились. Москвичи задумались.
В это время там, где остановились стрельцы, чтобы, немного передохнув, снова двинуться на монастырь, справа, на пригорке, показалась человеческая фигура. Неизвестный шел к стрельцам и что-то показывал им, поднимая руки. Со стены скоро узнали его: это был Спиря, который показывал стрельцам свою скуфью с птичками.
– Смотри-тко, братцы, Спиря! – закричали пушкари. – Ай-ай!
– Он и есть, братцы. Что он задумал?
Московские стрельцы, видимо, обратили внимание на этого странного человека. Все глядели в его сторону. Некоторые побежали к нему.
В это самое время слева, где рос кустарник, как из земли выросли люди. Прикрываясь кустарником, они приблизились на ружейный выстрел к правому крылу московского отряда. И их узнали с монастырской стены.
– Братцы! Да это наши там с казаками! – раздались радостные голоса.
– Наши! Ай да молодцы! В засад пошли...
Действительно, то была небольшая партия донцов вместе с молодыми и старыми монахами из рядовой братии, рыбаков и других трудников. Ярко оттенялись в зелени кустарника черные клобуки и скуфьи.
И вдруг из кустарника раздался ружейный залп. Московские стрельцы дрогнули от такой неожиданности: они сразу поняли, что это засада. Некоторые из них, пораженные пулями, упали. В этот момент и крепостные пушки дали залп.
Косой Исачко и кемлянин Самко распоряжались нарядом. Задымленные пороховой сажей, без шапок, то с банником в руке, то с дымящимся фитилем, они были страшны. Пушкари не отставали от них. Пушки накалились до того, что к ним нельзя было дотронуться.
– Уходят еретики! Уходят! – прошел по стене радостный крик.
– Наутек! Наутек! Улю-лю-лю!
– Святители! – с радостными слезами стонал Никанор.
Черный хор с ревущим Геронтием во главе дребезжал разбитыми голосами и гнусел до самого неба: «Взбранней воеводе победительная, яко избавляшеся от злых...»
– Хвалите Бога, отцы и братие! Кричите до самого престола его! Владыко всесильный!
Приступ был отбит.
IV. СИРОТСКАЯ СВЕЧКА ПЕРЕД ГОСПОДОМ
Странное, удивительное то было время. Маленький островок, едва заметный на карте, ничтожный огорбок, выползший из-под неизмеримых вод Северного Ледовитого океана, крохотная песчинка среди песков морских, Соловецкий монастырь отложился, ушел из-под державы великого неисходимого Московского государства, и московский великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые России, самодержец московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверской, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода низовской земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондинский, витебский, мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь иверския земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинские земли черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель (таков был полный титул Алексея Михайловича, и за прописку хотя единого слова в этом титуле дьяка постигало обычное наказание: «Бить батогом нещадно»), и такой могущественный государь в течение восемнадцати лет не мог подклонить под свою державную руку этого отбившегося от великого российского стада ягненка. Да и не до того тогда было. Повторяем: то было странное, удивительное время.
Эпитет «тишайший», приданный Алексею Михайловичу его современниками, совсем не подходил к характеристике его царствования, полного бурных событий. Он был кроток, набожен, со всеми ласков, с необыкновенно привязчивым сердцем. Он искренно любил Россию, свой народ и всем сердцем желал ему добра, счастия, благоденствия. Его голубиную душу глубоко ценили все его приближенные, с которыми он обходился с отеческою нежностью, и если иногда и наказывал царедворцев за упущения по службе, только не за злоупотребления, то истинно по-отечески: любимое его наказание было купать бояр в пруду. Вот что он сам писал об этом своему стольнику, Матюшкину: «Извещаю тебя, што тем утешаюся, што стольников купаю ежеутре в пруде. Иордан хороша сделана, человека по четыре и по пяти, и по двенадцати человек, за то, кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю; да и после купания жалую, зову их ежедень, у меня купальщики те едят вдоволь, а иные говорят: мы-де нароком не поспеем, так-де и нас выкупают, да и за стол посадят – многие нароком не поспевают...» И царь доволен, тешится, и выкупанные царедворцы довольны, и ни один не простужался, кушая в мокрой одежде, разве что насморк схватит, который послабее... Да что тогда и за насморки были, когда без платка сморкались!.. Таковы были люди, таковы были у них и нервы...
И это-то благодушное царствование благодушнейшего и «тишайшего» государя оказалось самым бурным, роковым для России, государственно и духовно расколовшим ее надвое, на две половинки, которые доселе, через два столетия, не могут спаяться воедино.
Что же это был за клин такой чудовищный, который расколол такое громадное, вековое дерево, как Московское царство, расколол надвое от ветвей и вершины до корня? И где нашелся еще более чудовищный обух, который вогнал этот страшный клин в вековой московский дуб, вогнал так, что расщепил его надвое? Чья, наконец, была та богатырская рука, которая направила сокрушительный обух на московский дуб?
На эти страшные вопросы во вкусе бессмертного Иоаникия Галятовского можно отвечать только в его вкусе, метафорически.
* * *
Великий клин, расколовший Московское царство, был – идея. Идея, в каком бы виде она ни входила в государство, в общество, в семью, всегда входила клином в живое тело и расщепляла его: входила ли она в виде живого слова, проповеди, в виде книги, в виде знания, она всегда и везде одними усваивалась и принималась, другими отрицалась. Принимали ее обыкновенно или почему-либо равнодушные к господствующим понятиям члены государства, общества и семьи, или же члены молодые, юные, для которых господствующие понятия не стали еще делом привычки, чем-то дорогим, своим. Отсюда являлось раздвоение мнений в государстве, в обществе, в семье: отсюда раскол в обширном, историческом смысле слова, разделение на «приемлющих» и на «неприемлющих», на людей «новых» и на людей «старого порядка». Этою идеею во время Алексея Михайловича была книга, и притом печатная, потому что в Москве завелась первая типография, занесенная из Киева, из того места, откуда заносилось в древнюю Русь все лучшее – христианство, просвещение, печать. Прежде всего, конечно, нужно было напечатать самые важные, самые необходимые книги. А таковыми были книги богослужебные. Начали печатать их. Но с какого оригинала наборщикам набирать их? Надо было найти лучшие, правильнейшие оригиналы. Собрали их. Стали сверять, оказались незначительные разноречия, и в иных описки, которые от давности вошли в привычку, как, например, «Исус» вместо «Иисус». Книги сверили с греческими подлинниками, исправили и напечатали. Тогда люди привычки, старые люди, отказались принять новые книги... Клин остановился в дереве, ни взад, ни вперед...
Тогда является обух и бьет по клину. Клин, повинуясь страшной силе обуха, входит в дерево и расщепляет его надвое. Обух этот – Никон: он проклял не приемлющих новые книги... Те ощетинились...
Рука, двигавшая обухом – Никоном, было время: «Приспе бо час»... «Приспе час» и Московскому государству дать у себя место печати, книге, новой идее...
Соловецкий монастырь вместе с прочими людьми старого склада не принял новых книг и откололся от Московского государства. Нашлись было и в этом монастыре «новые люди», молодые попы, которые начали было служить по новым книгам; но их архимандрит велел «сечь плетьми», и они покаялись после вторичного сеченья.
Вскоре и сам Никон, так сказать, «отложился». Оскорбленный невниманием царя, который не иначе прежде называл его как «собинным другом», Никон бросил патриарший престол и ушел в монастырь, показывая на стоявшую в то время на небе комету:
– Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи!
Он заперся в своем монастыре и сидел там ровно девять лет. Потом его судили и «обнажили» высокого святительского сана... «Откололся» таким образом и Никон, но не от новых книг...
Затем через год или два после суда над Никоном Стенька Разин «отколол» от Московского государства всю юго-восточную окраину... Так до того ли было Московскому государству, чтобы думать об отложившемся ничтожном островке на Белом море, о Соловецком монастыре... Вот и сидят себе старцы в своей обители, и поют по старым книгам...
Разина берут и помещают его буйную голову на кол.
Москву очищают от главных вожаков сопротивления новой идее – новым книгам: протопопа Аввакума и других воротил «отколовшегося» московского общества ссылают в Пустозерск.
Остается один Соловецкий монастырь. Покончив со всеми, принимаются и за него. Шлют туда стряпчего Игнашку Волохова с ратными людьми. Черная братия принимает Игнашку в пушки и прогоняет от своих стен.
Шлют стрелецкого голову Корнилишку Иевлева со стрельцами, и его встречают «галаночками» и гонят аки волка из овчарни.
Шлют, наконец, воеводу Ивашку Мещеринова с целою флотилиею, с пушками и стенобитными орудиями. И Ивашку принимают в «галаночки».
После неудачного приступа Мещеринов отошел к своим кочам. А монастырь, усилив караулы поблизости стен и подмонастырного хоромного строения и амбаров, вошел снова в обычную жизненную колею. Но через три дня после приступа случилось обстоятельство, которое послужило началом рокового, трагического исхода «соловецкого сидения».