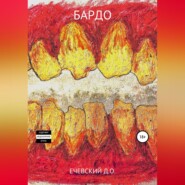По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бардо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как как может? Это как?
– Сракой, как?
– В смысле?
– Ну натурой, ёпт. Очко подставляет, че еще? Тупишь ты чет.
– Я не туплю, я.
Время утекает, как вода, парфюмированная для утюгов. Зайдешь за продуктами, когда пойдешь домой? Кайфанешь. Хорошо. Только отправь мне список. Где что? Это все невыносимо. Как ты поступаешь со мной. Не понимаю, чем я заслужил. А где-то там, на периферии крохотного мира. А где ключ? Тень-глюч. Ты что, оставил дома? Оставил-дом-я. Да, я бездомный. Стоны. Роман не дышит и не слышит запахи, не видит ничего, он целиком и полностью под хирургическим ножом.
– А она не может как-то по-другому? Я не знаю, заплатить потом или послать его?
– Слышь, Ром, ты че, не сечешь? Жизнь – штука непростая. Это че, для тя новость? Я те так скажу, Лёха – чел непростой. У него все: бабки, связи, че еще? Кидануть Лёху? Такое. Нервный он, на стреме, в опаске постоянно, сечешь? Выкинуть че-нибудь. Тут, как бы, уже надо решать. Те че важнее: бабки или жизнь? Или целка в случае с Ленкой. Тут как бы, хоч не хоч, а долг есть долг.
– Долг.
– Долг – это яма, братан. Хоч не хоч, платить надо, сечешь?
Стоны вырождаются в плач. Внутриродовые слезы лезут из Романовой кожи вместо пота. Все меняется. Ребенок хнычет. За стеной. Хватается за пуповину, хочет обратно в живот, родиться заново. Дитя хватает все звуки ртом и собирает их в крик, один: отчаянный, звериный, невыносимый не-крик: “Не трогай меня! Не тро! По-жа-луй-хна-хна-хна!”
Комната схлопывается, коллапсирует в себя. Ничего нет. Лишь крик. На руках Романовых рук ее кровь. А в глазах его слезы и сострадание. Но тело не хочет, не дает, не подчиняется, оно во власти дивана, диван во власти кого-то еще, кто-то во власти чего-то, у всех оправдания, и даже у дивана есть свое оправдание, поэтому все люди на свете УБЛЮДКИ. И пока мультик не отмучился, глаза вынуждены смотреть его. Но быть прохожим. Зачем быть, если ты прошел? Кто? Даже смерть надеется на жизнь. Смерть – это убийца зла, и ей стыдно за нас. Бог надеется на человека. На человека, а не на людей. Тот, кто знает человека, видит, – это Бог. Ведь все вещи сидят в нем, как коровы в хлеву. Роман встает. Артем хватает руку.
– Э-э-э, эй! Стой! Ты куда? Я ж ска.
– Послушай, я так не могу… Это неправильно.
– Погодь,
– Повсюду! Они повсюду! Пауки! Пау-сни-ми! Сни-ми-те-с-мен-я-я-я-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!
Длинный глист вьется на полу и рвется на волю из бледной кожи. Худая змея в черной толстовке. Хватает воздух, режет ногтями. В припадке упавший парень. Артем отвлекся. Рука свободна. Запах, свет, стены, люди, окурки, ублюдки, дыхание, дым, пол, все оживает и живет. Девушка, нужно помочь девушке. А нужна ли ей помощь? Да кто тебя просит? Кому вообще нужна твоя помощь? Что ты можешь мне дать? Я сама-мама-гум. А ты. Нет, надо помочь девчонке. Роман оживает. Артем вновь хватает Романа.
– Слышь, братан, сядь, пожалста. Слышь, ты че делать-то собрался?
– Я это остановлю.
– Что остановишь?
– То, что он там с ней делает.
Роман рвется, но Артему вновь удается. Зубы зубятся, червятся на коже. Нет, это волосы, ручные волоски, что клубятся ростками, цветами, мечтами, ножами, ушами. Они подслушивают, что Роман скажет. А он скажет:
– Нет, я так не могу.
– Слушь сюда, подумай, че ты делаешь. Те че, проблемы нужны, а? Ты их получишь, сто пудов! На кой хер те это? Те жить надоело? Да и ваще, это лчн дело каждого. Сядь, а? Ну сядь, а!
Роман сгибается в полуобруч, поближе, насколько возможно фатально, к лицу, и яростно смотрит в Артема. Тихим тоном Роман глаголет:
– Думаешь, меня можно запугать? Думаешь, я боюсь? За свою жизнь или вроде того? Думаешь, ты знаешь, кто я такой? – Артем молча глотает молчание. – Ты понятия не имеешь, кто я такой. Понятия не имеешь, с кем говоришь. Мне нечего терять. Я ничего не боюсь, понял? А теперь, отпусти, пожалуйста, мою руку или я сломаю тебе твою.
Отпускает, нехотя, но отпускает. Не передать, что не могут передать его слова. Только зрачки похудели и стухли в точки.
– Ром, ну ты че это? Ты че, брат?
– Какой брат? Какой я тебе брат, а? Ты поможешь мне или как?
– Ром, ты че, я.
Внутриродовое бессилие переходит в родовое насилие. Комната орет всеми своими ртами в одном: Не-е-е-ет-не-надо-по-жа-луй-ста! И плачет. Роман ни минуты не ждет. Кто он? Где? Шаг зашагивает в никуда. Что это? Вибрирующий черный коридор. Проплывают стены, люстра, вещи, растворенные в темноте. Мимо пустот и полнот. Пол растоплен в черное молоко. Пол похищает его. Молоко пьет Романовы ноги. Но это только на миг позабытый мир. Слегка оступился. Забылся.. Крики коверкают тишину. Роман злится, и всё уже ползет к нему на поклон, обратно, вместе с силами и мозгом. Да, Господин, мы твои. Нервы распределенны. Ручка двери.
Роман жмет на нее. В комнате смещаются плиты. Смещается, как долговязый шкаф. Не понимая ничего, как медуза. Поспешно, как моча. Лёха. Его голая спина сдвигается на два шага назад. Высвобождает картину у стены, намалеванную двумя руками с окровавленными кулаками. В углу девушка, скрюченная в красно-бледного червя. Ее ручки ладонят рану лица листьями ладоней. Прячут ужас. Скрываются, защищаются, стонут. Червь меж ног мотыляется из стороны в сторону при свете лампового солнца. На время тухнет свеча сознания. Он напуган, он не ожидал, не ждал Романа.
– Ты че, хер, перепутал че-то? Те че надо тут?!
Романовы глаза обыскивают комнату и ублюдка, прекращают обыск на девушке в углу. Романово тело строго тянет в ее сторону руку.
– Одевайся.
Глаза возвращаются в исходную позицию:
– Она пойдет со мно.
Романово тело на полу. Мышцы сожжены в дрожащий пепел и, кажется, уже бессильны. По ним бежит зарядом гнево-шок. В остановившемся времени ведется война. Дыхание-его-Романово-дыхание. Кожа елозится о пол в ожог. Трепыхания, плевки, слюни сбегают с губ и падают в глаза. Не понять, кто кого душит. Горло-рука-горло-рука. Не понять, что происходит. На миг они оба поднимаются с пола. Удары. Колено. Локоть. Сложно. Вновь падают на пол. Трясутся в небе мебель и полки. Девушка ползет в стену. В какой-то момент. Роман. На нем. Душит его. Спустя долгое ничего, руки парня целуют паркет. Сил в них нет. Теперь-то уж точно. Роман отпускает на волю его шею и принимается за лицо. Хлысь. Хлысь. ДА-А-А-А-А. В кровь. Хорошо. Вот так бы сразу. НАКОНЕЦ-ТО. А то было лицо как лицо. А теперь у урода уродливо-кровоточащее ничто. Его нос, брови, губы больше не видят друг друга. Слились в одну кровавую свалку на помойке лица. Ломоть отборной уродины. Роман счастлив. Вот он и нашел наконец себя. ДА ЭТО ЖЕ ПРЕКРАСНО. Но где-то из-за кулис кто-то кричит:
– Хватит! Пожалуйста!
Роман останавливается.
– Ну чего ты сидишь? Вставай одевайся!
Быстрым броском Романовых ног он достигает кровати, хватает одежду девчонки и швыряет ей. Подбегая, он помогает девушке встать, одевает.
– Э. Э-э-э-эй!
Лёха поднялся. Что? Не только поднялся, мудак лезет в карман своей куртки. Роман оборачивается. Да у него нет лица. Как же он видит без глаз? Куртка выдала суке на руки нож. Но у Романа тоже есть куртка, как все мы помним. И каким бы абсурдом все это ни было, кто-то выдавливает из себя испражнение:
– Лёх, а че ты тут делаешь?
Лёхина свита, давно позабытая, которой была забита квартира, вся на пороге комнаты. Нарики, нарколыги, наркоманы, торчки, обдолбыши и все остальные. Миг. Еще миг. И еще. Роман стреляет в яйца Лёхе. Все в шоке. И че?
Стишок кишок
«Этот момент имеет первостепенную важность: если ты сейчас отвлечешься, потребуется бесконечная вечность, прежде чем тебе удастся выбраться из Трясины Несчастья.
Изречение, истина которого применима здесь, звучит так:
«В одно мгновение проводится грань;
Другие электронные книги автора Данил Олегович Ечевский
Другие аудиокниги автора Данил Олегович Ечевский
Бардо




 0
0