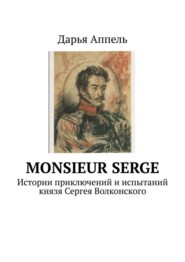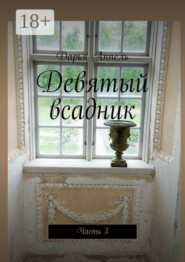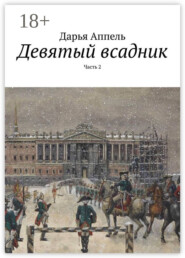По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волконский и Смерть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Правильно. Потому как мне сейчас не до этого. Ты либо заходи сюда, либо иди к себе уже, – раздраженно посмотрела на него Алина.
Брат предпочел выбрать первый вариант. Ну конечно, он же любопытный и довольно хорошо понял, что сестра нечто скрывает. После ее возвращения Гриша то и дело допытывался, что она видела в Таганроге, как именно умер государь, и как решится вопрос с наследством престола. Вопрос решался запутанно и неловко, как убедили их последующие события, но Алина до сей поры отделывалась лишь общими фразами и вынуждала брата писать отцу, который «знает куда более, чем я». На деле ей было, что рассказать. И она даже воображала, что эти сведения смогут как-то помочь арестованному дяде. Только поведать их нужно было правильным людям. Но как?
– Ты, верно, не знаешь, что государь не умер в Таганроге, – начала она с места в карьер, не давая брату времени на подготовку.
– Так, это что-то новенькое… А кого тогда хоронят?
– Фельдъегеря, солдата, забитого насмерть, – словом, неважно. Я видела тело… Лучше тебе его не видеть, – усмехнулась Алина.
Она действительно видела тело, некую черную массу в парадном мундире, возлежащем на гробе, от которого распространялся удушливый смрад, не скрываемый благовониями, щедро курящимися в зале. Ей стало дурно, она побледнела и вынуждена была мигом вылететь из комнаты, где ее вывернуло наизнанку. Даже подосадовала на такое – Алина никогда не боялась вида собственной крови, дохлых крыс и прочих неизбежных мерзостей бытия, которые заставляли ее товарок падать в обморок. Здесь реакция была, скорее, вызвана телом, чем духом.
– Ерунда, – отмел Гриша. – Там море людей, думаешь, было бы незаметно, если бы тело подменили? А как же болезнь, от которой он умер? Papa же сам писал…
– Это тебе он писал, а я все видела своими глазами. То была пустячная простуда, несварение желудка, от которого бы не умер такой физически крепкий человек, как Его Величество.
Алина знала, что ей придется приводить все эти постулаты в разговоре с другими людьми – вполне возможно, что с кем-то из членов Следственного комитета, например, с генералом Бенкендорфом, который по некоторым обстоятельствам мог считаться ей кем-то вроде родственника, – или даже с самим государем или императрицей. Ее слово, может быть, не столь весомо, как слово кого-то из ее родителей, но она имеет преимущество свидетельницы событий, достаточно непредвзятой, чтобы ей можно было верить.
– И что же стало с государем, по-твоему? – брат смотрел на нее скептически. – Болезни бывают всякие, тем более, в той глуши ему некому было помочь.
– Как что? Он ушел… – тихо произнесла она. – Исчез. То был план, и знаешь ли, что наш papa мог его реализовать?
– Что за ерунда? – возмутился Гриша. – Я догадывался, что ты куда глупее, чем про тебя все говорят, но чтобы верить в эдакую фанаберию в твои-то годы…
– Это ты глупец, что не видишь очевидного. Ежели бы ты был рядом со мной тогда, то сам убедился бы в том, что все, сказанное мною, – правда, – Алинка посмотрела на висящий в дальнем углу образ Богоматери. Можно было бы побожиться на образе, но она не стала. Не на таком, по крайней мере…
– Положим, это так, государь ушел куда-то, а наутро объявлено, что умер. Хм, право, роман, – продолжил Гриша. – Но причина сего случая? Ничего не бывает без причины…
– Достаточно того, что он прекрасно знал о намерениях его свергнуть и убить, – продолжила Алина. – Думаешь, о тайных обществах стало известно только в декабре? Да ты, небось, сам слышал, только тебя по малолетству и природной твоей болтливости никто не принимал туда…
– Как я мог о них слышать в Париже? – проворчал Гриша, недавно только приехавший в Петербург начинать службу и пока весьма недовольный тем, что нашел на родине. Его амбиции простирались на то, чтобы уехать куда подальше, получив назначение в одну из европейских столиц, где он бы мог жить спокойно, сочинять музыку, а не скучные доклады по Азиатскому департаменту. Но события смешали все карты, и он уже не знал, каково станет его будущее. Возможно, на карьере придется поставить крест навсегда. Эта мысль не вызывала в нем никаких сожалений, ведь тогда можно будет предаться своему увлечению со всей полнотой. Только если вдруг не случится еще чего непредвиденного…
– Так вот, – продолжала Алина. – Государь знал, что заговорщики уже вынесли ему приговор. И он выбрал тайный уход с престола, инсценировал свою смерть, чтобы избежать мученической гибели.
– Прекрасно. И при этом он оставил престол незанятым, – брат, как видно, не поверил ее словам. – Началась вся эта история… Но какое это нынче имеет значение – допустим, ушел и ушел, и даже пусть наш отец ему помог. Не предлагаешь ли ты его найти и вернуть? Или объявить во всеуслышание, что в гробу лежит самозванец – если его так можно назвать?
– Тело, что лежит в гробу, опознать невозможно. На все вопросы отец, Дибич и медики отвечают, что произошла ошибка при бальзамировании, тем более, покойного подбирали по внешнему сходству, – Алина вновь ощутила подбирающуюся к горлу тошноту, когда представила во всех красках нечто, уже мало похожее на человека, упокоенное в пышном гробу. – Им верят и не задают лишних вопросов. Но вернуть государя…
Она опустила голову, отчаянно звеневшую в висках.
– Даже если его вернут, это ничего не поменяет. Только принесет дополнительную смуту и недовольство, – продолжил за нее брат. – Более того, не кажется ли тебе, что аресты так называемых участников тайного общества – это тоже его план? Для того и нужно было уйти, спровоцировать их на выступление, чтобы всех взять и схватить?
– Схватили не только тех, кто выступал, и ты это знаешь, – тихо проговорила княжна. – А так ты прав.
– И, если честно, мне все равно на всех арестованных и приговоренных, кроме одного. Его мы и должны вытащить… Но твои сведения ничем не могут помочь, кроме того, что подтвердят вину Сержа.
Он всегда называл дядю просто по имени, равно как и она. Ведь тот казался им вечно молодым, вроде их общего старшего брата, с которым так славно проводить время. И больно было знать, что он мог просто так исчезнуть из их жизни, оставив пустоту, которую не заполнит никто. Алина не могла ручаться за Гришу, но сама она пролила немало слез в подушку, осознавая собственное бессилие в подобной ситуации. Если есть хоть малая надежда его спасти, то стоит ей воспользоваться. Но Гриша был прав – ее догадки, которые так легко опровергнуть, создадут еще больше вопросов. И она была не совсем уверена в том, что ее отец поможет, одобрит ее действия. Алина писала ему длинные, полные полувопросов-полуутверждений письма, описывала все происходящее в Петербурге, включая поступавшие сведения о Серже, но ответов не получала. Казалось, отец растворился в той же бездне, что и его государь, которому он всегда служил верой и правдой, готовый отдать за него жизнь. Что касается матери, то Алина менее всего хотела бы, чтобы она присутствовала здесь, поэтому новости о ее приезде огорчили девушку более, чем обрадовали.
– Его надо попросить, чтобы он сказал правду, – княжна Алина впервые решилась выговорить вслух то, что вертелось у нее в голове, рожденное часами бессонницы, догадок и сопоставлений, обрывками фраз из подсмотренных на столе отца бумаг, попытками чтения писем дяди между строк, краткими вспышками воспоминаний. – Он был в обществе цареубийц исключительно для того, чтобы их разоблачить и остановить.
Брат поднял на нее глаза, такого же зеленовато-серого, неопределенного цвета, как у матери. Взгляд сделался таким же тяжелым, как бывал у той, когда она слышала или узнавала то, что не хотела. Когда она не просто смотрела на свою дочь, а видела ее такой, какая она есть, и увиденное не нравилось княгине Софье. Алина помнила этот взгляд с младенчества, он слился в череду пугающих воспоминаний, наряду с черными тенями во вьюжную полночь, наряду с мертвым смердящим телом самодержца, наряду с жуткими снами во время болезней с сильным жаром. Действий после него не следовало – Алина просто съеживалась внутри, ощущая себя маленькой и бессильной. Но Гриша-то зачем на нее эдак смотрит? Что он сделает? Что он скажет?
– Он не доказал ничего сам, – проговорил он после паузы, и в голосе его чувствовалась сокрушенность. – Молчит и запирается – бабушка же сама так говорила. Ежели он хотел бы кого выдать, то сразу же бы сказал имена и все подробности. Но Серж молчит. Или врет. И вообще говорит, что сам во всем виноват.
– Он чего-то боится, – отвечала она очень тихо. В голове у нее гулко звенело, будто бы бил огромный колокол.
– Серж? Боится? Ты сошла с ума, право слово. Что maman, что ты… Зачем я с тобой разговариваю? Сперва приди в себя, – Гриша решительно встал и направился к двери. Алина его не останавливала, только рассеянно глянула ему вслед.
– И еще, – добавил брат. – Не вздумай со всем этим являться к следователю или на аудиенцию к государю. Да и бабушке не говори. Слышала? Узнаю, что ты вываливала этот бред кому-то, кроме меня…. – он выразительно показал кулак.
Алина пробормотала ему вслед довольно грубое проклятье, которое от нее, благовоспитанной великосветской барышни, услышать было неожиданно. Но Гриша уже хлопнул дверью и ушел к себе.
«Бред», – хмыкнула она, усаживаясь за секретер и открывая большую, in folio, тетрадь в черном с золотом переплете. – «Сейчас увидим, какой это бред».
В дневнике она описала весь день, не забыв и про разговор с младшим братом, свои додумки и догадки. «Хоть бы maman не приезжала подольше. Хоть бы ее что-то содержало у дяди Николя, где она нынче находится. Или в дороге что сломалось. Она же тоже мне не поверит, если не более…».
Захлопнув тетрадь и отложив в сторону перо, девушка посмотрела в дальний угол, где лампада горела над образом Богородицы. Глаза ее привычно остановились на святом лике, различив такие знакомые черты лица. Потом Алина глянула на младенца, светловолосого, кудрявого и синеглазого. Писано в далеком 1806-м, автор – некий крепостной умелец, из прилично обученных сему ремеслу в Италии, поэтому изображение на иконе подражает Рафаэлю в прозрачности фона и в тонкости линий. Даже одеяние такое же – синее с багрянцем. И это странно, «она ненавидит все красное. Наверное, тогда любила, или позднее раскрасили», – подумала Алина. Ибо на иконе Богоматерь изображала ее собственная родительница, 20-летняя тогда княгиня Софья Волконская, а Божественным Младенцем, по утверждению отца, подарившего княжне этот образ, выступала сама она – или, как надеялась девушка, все-таки ее брат Дмитрий. Что-то безмерно кощунственное было в самом факте этого подарка, да и в самой идее позирования для иконы – как будто мать хотела, чтобы на нее молились. «Да не как будто», – оборвала себя Алина. Она поэтому никогда не молилась на этот образ, предпочитая обращаться к своей святой тезке, преподобной царице Александре. Сегодня ей было невыносимо видеть этот взгляд тяжелых глаз, по воле художника сделавшихся темно-карими, и она, подойдя к красному углу, совершила акт, который придется упомянуть на исповеди – отвернула икону к стене. Так-то лучше, и девушка вздохнула с облегчением. А потом, вспомнив об обещанном, опять села за стол, достала лист бумаги, и начала поспешно писать. «Его Превосходительству Генерал-адъютанту Бенкендорфу лично в руки…», – начиналось обращение. Доставить его нужно было завтра с утра и получить аудиенцию как можно скорее. Алина еще пока не знала, что будет говорить этому следователю. Выбрала она его просто потому что считала его своим человеком. «Если он, почитайте, брат графу Ливену…. Как жаль, право, что тот никогда не уедет из Лондона, и что процесс начался прямо сейчас, а не после коронации, когда должны присутствовать все подданные. Он бы смог что-то сделать. А остальные – вряд ли. Не в этом ли суть?» – подумала она. Идти к Чернышеву, Левашову, а тем более, к Дибичу, который соперничал с ее отцом, княжна не могла. Да, первые из двух – сослуживцы ее дяди, но служил он в Кавалергардском полку очень давно. Бенкендорф с ним вместе воевал. Да и не только… «Его дочь – крестная графа», – думала Алина. – «Он поймет». С этими словами она легла в постель, но сон к ней так и не шел. Засыпать последнее время стало необычайно сложно. Она представляла себя в клетке, в зловонной тюрьме, обнесенной могучими стенами, и почему-то заполненной трупами в разной стадии разложения, а потом видела Сержа – ей было сложно вообразить его там, в этой клоаке, потому как он врезался в ее память таким, каким она его запомнила и полюбила, еще совсем девчонкой, еще до всех французских романов и чувствительных стихов – высокий и стройный молодой человек, волнистые темно-русые волосы, ресницы, отбрасывающие тень на лицо, скулы, настолько острые, что ими можно резать бумагу, ясные серо-голубые глаза, длинные пальцы, ладно сидящая на нем парадная темно-синего сукна униформа, увешанная многочисленными орденами, какой-то дух свободы и радости, который появлялся всякий раз, когда он приезжал, и его голос, его манера говорить – столь же весело и непринужденно, заставляя ее хохотать от сказанного. Как такой человек может жить в заключении? Как он может болеть… и умереть? Что бы с ним не сделали, нужно было это предупредить… Она будет убедительной, она сделает все, чтобы вытащить его оттуда, пусть даже обменяется с ним одеждой и сама подвергнется заключению, пыткам и казням, как в одном историческом романе описано…
Алина вздрогнула и открыла глаза. Легкую дремоту, надвигающуюся на ее в преддверии глубокого сна, как рукой сняло. «Мне же придется разоблачать papa. Его тоже будут допрашивать», – подумала она. – «И, собственно, какие у меня есть доказательства?» Алина пожалела, что нельзя никак взять следователей за руку и провести в ту комнату в Таганроге, где лежал этот ужасный гроб с неким трупом в короне и горностаевой мантии… Да даже если бы и можно было, они бы не поверили. Потом, генерал Дибич же был в Таганроге наряду с отцом, и он засвидетельствовал смерть императора вместе с ними. Ее показания спишут на экзальтированность двадцатилетней барышни, перенесшей первое в жизни потрясение чужой смерти, над ней станут насмехаться, да и дяде тут ничем не поможешь – если государь ушел, то значит, ему было чего бояться, и Серж во всем признается. Интересно, в чем он признается? Неужто в намерении убить государя?
Девушка рухнула в подушку и застонала от бессилия. «Вот я и в тупике. Даже не знаю, что делать», – проговорила она сама себе. – «В любом случае, я должна увидеть его… Должна. Пока это не сделала мать. Или вот эта… Мари, его жена, со своим мелким. Впрочем, она не шевелится, да и скорее всего, возьмет с ним и разведется. Дура и сука».
Последние слова она произнесла чуть ли не вслух, прекрасно сознавая, что не имеет никакого права их произносить. Она даже не знала эту девушку и не видела ее портретов. Из писем следовало, что она красавица (о, всенепременно!), хоть и весьма смугла (тут Алина с удовольствием разглядывала собственное молочно-белое запястье с извитым рисунком синеватых вен – та самая голубая кровь, коей гордились знатные испанские грандессы и которой могла возгордиться и она, столь же знатная княжна Волконская), третья дочь генерала Раевского, того самого, воспетого Жуковским, певица и танцорка (замечательное сопрано, якобы, исполняет партии самой большой сложности), не слишком богата (у отца много крепостных душ, но еще больше долгов). Серж, как водится, моментально влюбился в сию пери и мигом посватался («всегда таков, сначала делает, потом думает!» – проворчала бабушка), получив вполне ожидаемое «да». Maman Алины, находившаяся тогда в странствиях по Франции и в очередной раз отправленная в отставку своим сиятельным любовником, вершившим русско-английские отношения, выслала Мари тончайший туалет из серебристо-белого кружева – Алине же никогда такое не дарили. Алине от maman доставались лишь горячие просьбы помочь в неких грязноватых делах, о которых она лишний раз предпочитала не вспоминать – как не будет вспоминать и о теле фельдъегеря или солдата в императорском гробу, разлагающимся на плесень и слизь. Но это все пустое – качества сей барышни Раевской, подарки от Алининой матери, милые бабушкины письма. Главное – сия Мария вышла замуж за Сержа. Сказала это «да» после формального предложения и перед алтарем. Более того, родила ему сына. По расчетам, забеременела всего лишь через два месяца супружеской жизни. А это значит… Да, все то и значит. Простые факты повергали Алину в отчаяние. «Он не захочет меня видеть», – говорила она нынче себе, не в силах справиться со злыми и отчаянными слезами. – «Он разочаруется в том, что я пришла вместо Мари. Конечно же…» Но именно потому что княжна была уверена в том, что Сержу не захочется видеть ее, она решила не отступать от своего плана увидеться с дядей. Иначе… Алине даже не хотелось предполагать, что будет, если она отступит. Если она дождется этой Мари, кем бы она ни была.
Она заснула под утро, неожиданно для себя, в одежде, не видев никаких сновидений, и проснулась слишком рано – наверное, часа через три после того, как безмерная и неотвратимая усталость заполнила все ее тело. Проснулась от того, что на нее пристально смотрели – и видели. Алина с трудом оторвала голову от подушки, и увидела, как за столом, на котором осталось незапечатанное письмо, сидит ее maman, во плоти и крови. В том, что это не видение, рожденное прерывистым сном, княжна была полностью уверена – даже духи матери, смесь туберозы и жасмина, плотным удушливым покровом стояли в темноте. Алина окликнула ее, но высокая сухая фигура в черном платье не откликнулась. И лишь ровно в тот момент, когда девушка уже решила, что ей померещилось, княгиня Софья Волконская заговорила:
– Я понимаю, что Сержа так естественно любить, но подумай, что это тебе дает, кроме страданий?
Сейчас она не смотрела на дочь, перечитывая письмо, написанное по всем правилам светской переписки.
– Бенкендорф, конечно, немало удивится и еще больше вообразит всякого, но свидание тебе даст, – продолжила княгиня Софья мерным голосом. – Не думаю, однако, что тебе удастся остаться с дядей наедине. Их там никого наедине не оставляют.
– Когда вы успели приехать? – Алина с трудом села на кровати, по-прежнему ощущая тяжесть во всем теле. – Сейчас же…
– Восемь утра. Я решила не оттягивать, у нас же рано встают, только вот ты… – и дама оборотила взгляд своих светлых, опушенных длинными стрельчатыми ресницами глаз, на дочь, растрепанную, с лицом, покрытым неровным румянцем и несущим на себе вмятины от подушек. Та поморщилась, осознав, насколько же плохо выглядит по сравнению с матерью, остававшейся бледной и собранной даже после дальней дороги и переживаний.
– Можешь продолжать дальше спать, только лучше тебе позвать Настю, чтобы она тебя переодела в неглиже, – усмешливо продолжила княгиня. – А письмо твое будет доставлено, не сомневайся.
Тут Алина осознала, насколько же опрометчиво она поступила, оставив послание на видном месте. Вопреки советам матери, она встала, резко одернула на себе измятое платье, подошла и отрывисто проговорила:
– Все же я предпочту сама передать письмо с лакеем. Отдайте мне его.
Княгиня Софья покачала головой, продолжая тонко улыбаться.
– Уж не хотите ли вы сами пойти в крепость? – продолжила Алина. Нынче, во всей своей несколько тяжеловесной настойчивости, она особенно поразительно напоминала собственного отца, прославленного князя Петра Волконского.
– Мой черед наступит еще не скоро, – туманно произнесла ее матушка. – А тебя пустят.
Она протянула руку, тонкую и остропалую, передавая послание Алине.