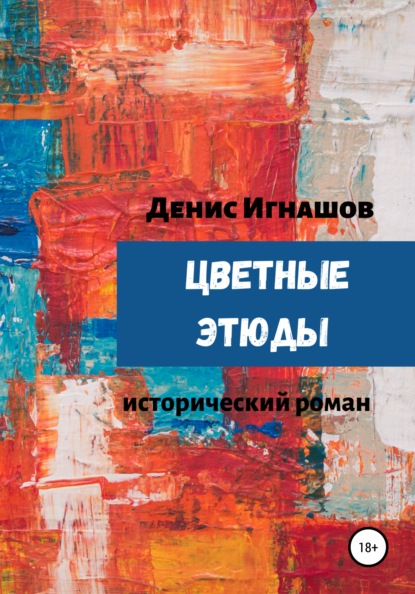По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Цветные этюды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не знаю… – Шмелёв сглотнул кровавую слюну. – Я не знаю ни о каком военном центре, – тихо пробормотал он своими опухшими губами.
– Зря вы так, Михаил Степанович, зря, – покачал головой Фридовский. – Отпираться бессмысленно. Мы раскрыли вас, вы враг… И ваше участие в подпольном военном центре ещё не самое страшное преступление перед Советской властью. Во время войны с белополяками вы вредили Красной Армии на фронте, а ещё раньше в восемнадцатом году вы в сговоре с бывшим командующим армией предателем Елагиным сдали Уфу белым.
Минуло одиннадцать лет, а всё как будто произошло в другой жизни. Пыльное, жаркое лето, бронепоезд, Уфа… Тогда судьба первый раз свела Шмелёва с Фридовским. Тот был комиссаром второй армии, а Шмелёва назначили начальником штаба. Но вместе повоевать не пришлось, командующий армией Елагин сдал город белым, а они… Он всё помнил. Шмелёв поднял голову и посмотрел с выплеснувшимся вдруг презрением на Фридовского снизу вверх.
– Я не враг, я всегда честно служил Советской власти, – сказал он еле слышно.
– Врёшь, сука! – взвизгнул Фридовский, его глаза сверкнули откровенной дикой злобой.
Шмелёв мог бы, наверное, испугаться, но у него уже не было сил: сорок восемь часов без сна, без еды, сидя на краешке табуретки, а вокруг декорации ожидаемого последнего пути: каменные стены, узкое решётчатое окно, жёлтый электрический свет настольной лампы и наглое, красное в оспинках лицо следователя. Шмелёвым овладело чугунно-отупляющее, покорное безразличие к жизни и смерти, когда сон, пусть даже и вечный, становится избавлением от полного физического истощения.
Фридовский опять прошёлся по камере, скрипя своими блестящими сапогами, потом склонился над Шмелёвым, достал из кармана своей гимнастёрки фотографию и поднёс к его лицу фотографию.
– Узнаёшь?.. Это фото твоей семьи. Вот твой старший сын Сергей, – Короткий, пухленький пальчик Фридовского ткнулся в фотографию. – Твоему старшему сейчас пятнадцать лет… А это младший твой сын Никита, ему двенадцать… А тут, в центре, – аккуратно подстриженный, ухоженный ноготок скользнул по фотографии, – это твоя жена Елена Анатольевна Шмелёва… Ты ведь любишь их?
Голова опустилась, сердце ожило, забилось быстрее, зубы ухватили воспалённую, кровавую плоть губы. «Они не посмеют», – как заклинание, как суетливый и беззвучный возглас отчаяния пронеслось в голове, но надежды не было, были лишь страх и боль. Решиться надо было сейчас, потом может быть уже поздно…
– Ты любишь их?! – повторил Фридовский, резко повысив голос.
Шмелёв вздрогнул и сник, выдавив из себя униженное признание:
– Да.
– Ты поможешь следствию?
– Да, – снова тихо проговорил Шмелёв; слеза боли и усталости, вынужденной и виноватой слабости скользнула по его грязной щеке, оставив мокрый след.
Фридовский, самодовольный победитель, снисходительно похлопал своего бывшего боевого товарища по плечу.
– Покормите и дайте поспать, – распорядился он и вышел из камеры.
Берлин, октябрь 1929 г.
Вернуть деньги Горохову так и не удалось, хотя Елагин пытался сделать это неоднократно. Горохов, не боясь оскорбить лучшие чувства своего бывшего командира, категорически заявил, что не возьмёт их обратно. Сошлись на том, что это будет беспроцентный займ, который Елагин обещался возвратить через год.
Жизнь стала другая, она стремительно изменилась. Спустя месяц после первого совместного похода в кино Елагин уже переехал к Серафиме Окуневой. Всё произошло как-то само собой, быстро и просто. Сначала прогулки, общение, потом привязанность, вылившаяся в нечто более серьёзное, чем ностальгические воспоминания и признания двух закинутых на чужбину русских душ. Елагин стал подолгу смотреть на себя в зеркало. Сухое, вытянутое немолодое уже лицо, серая кожа и пустые, унылые глаза – что могло привлечь её в этом одиноком и бедном бродяге? Елагин хмурился, сомневался в себе, боялся, но желал изменений в своей судьбе и потому, в конце концов, просто и по-военному категорично разрубил узел сомнений.
Дальнейшие свои действия он даже не обдумывал, хотя в его уже совсем немальчишеском возрасте этому, вероятно, следовало бы уделить время. Предложил Серафиме выйти за него замуж и получил согласие. Сразу же было решено, что жить они будут у Серафимы. Елагин собрался в полчаса, скинув в чемодан все нехитрые свои пожитки, расплатился с фрау Мюллер, проводившей его любопытствующим и недоумённым взглядом, и уехал, даже не попрощавшись с другими жильцами пансиона. Тягучее, одинокое существование было разорвано решительно и бесповоротно. Тёплая берлинская осень стала весной, подарила надежду, возродив к жизни уставший и разочарованный душевный организм, который долгое время лишён был самого близкого человеческого круга, а теперь желал единственное – обрести семью.
Серафима снимала две комнаты в центре Берлина; в одной разместились она и Елагин, другая была отдана сыну Серафимы Мите. Четырнадцатилетний Митька встретил Елагина настороженно. Он пристально наблюдал за тем, как пришлый мужчина неуклюже топтался в узкой передней, оглядывался вокруг, ища место, куда бы приспособить свой чемоданчик и виновато улыбался ему; рядом с мужчиной крутилась мать, суетливая, словоохотливая и счастливая. Митька боязливо пожал протянутую для приветствия широкую мужскую ладонь, его глаза жадно и недоверчиво изучали лицо мужчины, тот же продолжал смущённо улыбаться, кивал резко и невпопад, движения его рук были нервно поспешны.
Елагин пытался свыкнуться со своим новым статусом, влезть в него словно в новый, красивый и желанный, но не ставший ещё привычным и близким костюм. На первых порах этому активно мешали застенчивая боязливость и излишняя ответственность. Почти сросшийся с одиночеством Елагин поначалу чувствовал себя совершенно нескладно в окружении двух ставших ему вдруг родными людей. Желая быть заботливым супругом и внимательным отцом, поначалу он скорее играл роль, чем жил, боясь проявлять свои искренние чувства, боясь несуразности своего появления в чужой жизни, боясь новых своих обязательств в деле строительства семьи. Но маховик повседневности, а также заботливая женская теплота, которой Серафима окружила Елагина, обязаны были всё поменять и в итоге поменяли. Так появилась новая ячейка русского общества, волею злой судьбы обрётшая своё существование в нерусском социальном и географическом ареале.
Горохов нашёл Елагину скромную, но постоянную работу клерка в торговой компании. Это было совсем не то, что хотел бы получить бывший полковник российской армии, но выбирать особо не приходилось, а торговый род занятий гарантировал стабильный доход. А в новом положении для Елагина было важно в первую очередь обеспечить сносное существование своей семьи. И всё-таки только этим натура Елагина ограничиться не могла. Несмотря на новую служебную занятость, он продолжил свою политическую деятельность, периодически выступая в эмигрантской прессе со статьями на злобу дня.
Бескомпромиссный тон его выступлений, однако, сменился. Елагин постепенно отошёл от жёсткого неприятия большевистской действительности и пытался осознать этот новый исторический феномен под названием Советская Россия. Проходило время; раны, нанесённые гражданской войной, постепенно заживали. Елагин хотел верить, что советский режим эволюционирует, что то, с чем он воевал и не мог победить силой оружия, со временем преобразуется изнутри, и власть превратится из ненасытного, пожирающего людей Левиафана в нечто более дружелюбное по отношению к русскому народу и его будущему. Елагин продолжал верить в российский социализм, он хотел увидеть ростки нового народного единения, когда самоубийственные гражданские распри и ненависть сгинут навсегда и забудутся.
Советские газеты, регулярно попадавшие в руки Елагина, громко трубили об успехах социалистического строительства. Любой здравомыслящий человек не мог не заметить в этих кричащих строках банальную пропаганду, но эта прямая простота странным образом заряжала оптимизмом, поддерживала веру в будущее страны. И если хотя бы десятая часть того, что писала советская пресса, оказалось правдой, это уже, думал Елагин, говорило бы о возрождении России.
Серафима периодически впадала в ностальгическую хандру. Тогда она глубоко вздыхала, заглядывала в глаза мужа и тоскливо спрашивала: «Как ты думаешь, мы когда-нибудь вернёмся в Россию?» Елагин неопределённо пожимал плечами в ответ, отводил взгляд и находил себе какое-то неотложное занятие – делал вид, что этот вопрос его не сильно занимает в текущий момент, хотя на самом деле он тоже частенько грезил о возвращении на родину и даже представлял себе, как и при каких обстоятельствах это может произойти. Теперь, по прошествии времени перспектива возвращения в большевистскую Россию не представлялась актом самоубийства и уже не казалась совершенно невозможной, как это было ранее.
У Серафимы появилась новая знакомая из числа совграждан, работавших в дипломатическом корпусе, – любопытная восторженная дамочка, любительница элегантных шапочек и дорогих магазинов. Звали её Нина, она была женой одного из высокопоставленных сотрудников советского посольства, и потому пользовалась определённой свободой перемещения и обладала необходимым досугом для активного и познавательного заграничного времяпровождения. Серафима познакомилась с ней на улице, совершенно случайно – помогла заплутавшей в Берлине соотечественнице найти нужный дом. Разговорились, познакомились, и вот уже Ниночка (так звала её Серафима) стала с дружеской периодичностью посещать их квартиру. Ниночка была впечатлительной и общительной натурой, она любила чай с шоколадными конфетами и беззаботное щебетание на вечные женские темы: наряды, мужчины, дети. Странно, но в силу ли некоторой юной неосмотрительности, бесшабашности или излишней самоуверенности, Ниночка совсем не боялась, что знакомство с белоэмигрантами может навредить ей. О политике она почти не говорила, а на осторожные вопросы о том, «как оно там, на родине-то», на удивление раздражённо и со злой категоричностью заявляла, что «врут всё, и плохо там». Кто врёт, и почему «там плохо», Ниночка не объясняла, а лишь печально вздыхала и тут же заедала свою непостижимую горечь шоколадной конфеткой. Из чувства противоречия или просто провоцируемый желанием услышать наконец-то, что в России жизнь налаживается, Елагин готов был даже спорить с этой избалованной куклой Ниной, но никак не мог решиться на этот шаг. Враг Советского государства, защищающий права этого государства на успех, выглядел бы в глазах других или предателем, или сумасшедшим.
Под Рождество у Елагина случилась новая неожиданная встреча, опять напомнившая ему о боевом прошлом. Однажды вечером на пороге квартиры возник удивительный гость. Елагин не сразу узнал высокого мужчину, закутанного в дорогое меховое пальто. Выдали пышные с мороза усы и широкая добродушная улыбка. Это был Мухин, бывший начальник штаба Хвалынской бригады. Они обнялись, оба были искренне рады удивительной встрече. Мухин отстранился на мгновение, широко улыбнулся и опять притянул боевого товарища к себе. Елагину, зажатому в крепких объятиях, на мгновение показалось, что его бывший сослуживец стал выше ростом и шире в плечах, а он в сравнении с ним стал сутулее, слабее, много суше и старше.
– Я очень рад, – выдохнул Мухин, снова отстранившись и продолжая широко улыбаться, покачал головой и с чувством повторил: – Очень, очень рад!
Елагин познакомил Мухина со своей женой и приёмным сыном. Мухин долго и пристально смотрел на Серафиму, потом, видимо осознав, что это его необъяснимое внимание становится чересчур вызывающим, на приглашение к чаю объявил, что сегодня, к сожалению, никак не может задержаться в гостях у боевого товарища, что его ждут, но чтобы договориться о следующем, и более обстоятельном визите, был бы рад, если его старый друг полковник Елагин проводил его, а по дороге они бы обо всём условились.
Как только Мухин оказался на улице, его поспешность куда-то исчезла. Наоборот, он сразу же предложил Елагину посидеть в ближайшем кабачке и по душам поговорить. Время? Ах, да, время… Мухин хитро улыбнулся и махнул рукой – мол, те, кто ждут, могут и ещё подождать.
Они сидели в совершенно незнакомом берлинском кабаке, чуть хмельные от пива и воспоминаний. Рассказывал всё больше Мухин, с жаром, громко, увлечённо, будто вновь и вновь переживая всё то, что уже давно прошло и что ни вернуть, ни исправить было уже совершенно невозможно. Елагин же сидел и слушал, иногда кивал, словно подтверждая слова есаула или соглашаясь с ними.
– А мы ведь все тогда решили, что вас расстреляли, – говорил Мухин, вспоминая ноябрь восемнадцатого. – Но в вину вашу, в ваше участие в заговоре я никак не мог поверить, и в армии Дутова именно поэтому не задержался. По собственной инициативе перевелся в корпус Каппеля. Под началом Владимира Оскаровича я воевал против красных до января двадцатого, вместе с ним наступал, и ним же отступал. Многие, ох очень многие достойные офицеры погибли в тех боях! Не уберегли и Каппеля, он потерял обе ноги от обморожения и умер. Уверен, если бы не предательство чехословаков, мы смогли бы разгромить большевиков сначала в Сибири, а потом и до Москвы дошли бы. – Мухин резанул рукой воздух, замолчал, поглаживая свои пышные усы, и разочарованно бросил: – Впрочем, что ж сейчас об этом.
– Но потом, что же было потом? – спросил Елагин.
– В двадцатом вместе с отступавшим сибиряками я попал в Китай, в Харбин. Но там не задержался, и уже на следующий год перебрался в Белград – меня уверили, что именно в Югославии формировалась Русская армия, которая должна была освободить Россию от коммунистов. Однако никакой новой белой армии я в Белграде не нашёл, зато устроился в сербскую пограничную стражу. Без малого три года я верой и правдой служил королю сербов, хорватов и словенцев. Но в конце двадцать четвёртого подвернулась странная оказия – поход в Албанию. Это была чистейшей воды авантюра! Ахмет Зогу готовил переворот в Тиране, и главнейшей его военной силой должен был стать отряд русских наёмников, набранный в Сербии. – Мухин широко улыбнулся, в его глазах блеснула детская озорная весёлость. – Вы понимаете, Емельян Фёдорович, что я не мог пропустить подобное рискованное мероприятие. И вот зимой, под Рождество малочисленный Русский корпус вступил в Албанию. Войны не получилось. Албанская армия разбежалась после первого же сражения. Наши старые австрийские пушки и легенды о русских чудо-богатырях, не знающих поражения, сделали своё дело. Никогда ранее я не участвовал в более лёгкой кампании, скорее похожей на прогулку, нежели войну. Самым трудным оказалось поддерживать дисциплину в нашем отряде. Вынужденное безделье, скука и водка приносили больше вреда в походе, нежели действия противника. Как бы то ни было, именно благодаря русскому отряду Ахмет Зогу сверг премьер-министра епископа Ноли, провёл политическую реформу в стране и объявил себя президентом. Честно говоря, ни Ноли, ни Зогу не вызывали во мне особых симпатий, я служил за деньги, был простым ландскнехтом. Тем не менее, мы всё-таки сделали хорошее дело, когда свергли Ноли. Он был настроен очень просоветски, был, почти что, коммунистом, несмотря на свой сан, а главным советником у Ноли состоял агент ОГПУ Лучинский.
– Лучинский? – переспросил Елагин, порывшись в уголках своей памяти; эта фамилия была ему знакома, он вспомнил капитана дутовской контрразведки, его прилизанную чёлочку и удивился про себя такому парадоксу: два человека, по сути, политические антиподы, имели одинаковую фамилию.
– Да, Лучинский – известный провокатор, – только и заметил по этому поводу Мухин, а затем вернулся к рассказу о своей одиссее. – В Албании я не задержался, получил за свои заслуги из рук самого Зогу орден, а также албанский паспорт и перебрался в Италию. – Мухин сделал паузу, допил пиво и заказал ещё одну кружку. – И теперь я имею своё маленькое предприятие по производству мебели и живу в Италии, – подытожил он как-то очень печально, словно Италия была удивительно скверной и унылой страной. – Однако ж, скучаю я, Емельян Фёдорович, сильно скучаю. Видно, спокойная жизнь – не для меня. Эх, с удовольствием сейчас променял бы свой замшелый чужбинный уют на коня и шашку! – Мухин сжал кулаки. – Теперь бы я точно не упустил возможности раздавить красную гадину! И таких, как я, немало!.. Немало, поверьте, Емельян Фёдорович, – добавил Мухин, увидев в глазах Елагина сомнение. – Нам бы только политического руководителя хорошего, да командира толкового – мы бы горы свернули!
Елагин отрицательно покачал головой. Мухин откинулся на спинку стула, опёршись прямыми руками о краешек широкого дубового стола.
– Вы сомневаетесь? Я не узнаю вас, Емельян Фёдорович! Вы, герой белого движения…
Елагин не дал Мухину закончить.
– Бросьте, Сергей Александрович. Что может быть героического в братоубийственной гражданской войне!
Почти мгновенно и резко выросла стена отчуждения, разделившая однополчан. Повисла неуютная пауза, которая длилась всего несколько секунд, но, на удивление, долгих и неприятных секунд. Мухин первым нарушил тягостное молчание.
– Значит, вы вне игры. – Он всё понял.
– России нужен мир, она не выдержит новой гражданской войны, страна умрёт, – пояснил Елагин.
Нет, совсем не злость читалась в глазах Мухина: это было больше похоже на горечь разочарования.
– Так ваш ответ «нет»? – ещё раз уточнил он.
Елагин был категоричен.
– Признаём мы то или нет, но Советская Россия стала новой Россией, которая возникла на руинах старой. А я не могу воевать против России.
– Так, так, – Мухин задумчиво постучал костяшками пальцев по столу и печально промолвил: – Не ожидал я, что они так быстро вас перевоспитают.
– Кто это «они»? – не понял Елагин.