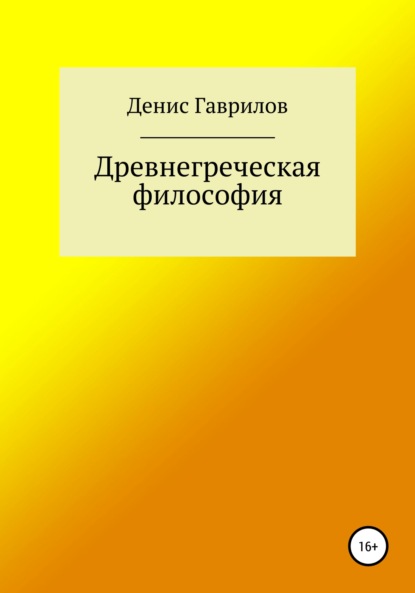По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Древнегреческая философия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Для Аристотеля душа не есть какая-то отдельная от тела субстанция, а потому для Плотина его система такой же объект критики, как и система стоиков. И вот здесь Виктор Лега делает весьма смелый вывод о том, что аристотелевская энтелехия отрицает бессмертие души. Однако из трактатов о душе Аристотеля мы знаем о том, что он говорил о смерти «телесной души», в то время как к Богу всегда возвращается божественная сущность человека, которая жила в теле. Напомним также, что и сам Плотин писал не только о борьбе с телом, которое повреждено грехом, но и с низменными частями души, приведение их в вертикаль умной души. Поэтому и критику пифагореизма в таком случае нужно разбирать самостоятельно, как бы и в неё не закралась какая-нибудь погрешность мысли.
Плотин идёт дальше Аристотеля по вопросу дихотомии души. Чувствование возможно лишь постольку, поскольку низшая душа, которая чувствует, связана с душой высшей, которая воспринимает чистые идеи. Чувствование низшей души схватывает чувственные формы как иррадиирущие, отраженные светом, исходящим из первоисточника – Идеи высшей души.
Отсюда и возвращение к Абсолюту возможно не только через сложившиеся в представлении пути – путь добродетели, платоновского эроса и диалектики, но и через четвёртый путь – путь божественного экстаза – мистического союза с Единым, своего рода «опрощение». Истинная Судьба души в том, чтобы вернуться к Благу, достичь божественного единения.
В экстазе душа, наполненная Единым, видит себя в райском блаженстве. Здесь необходимо уточнить, что философы по-разному понимали смысл экстаза. Так Филон понимает этот процесс в библейском духе как «благодать», как дар Бога. Плотин же не считает экстаз даром, он стоит на том, что люди сами должны восходить к Богу, своей волей добиваться воссоединения, благодаря которому и будет достигнута благодать.
Однако он считает, что для наполнения души божественным духом не надо аннигилировать себя, это значит искусство расшириться до Бесконечного, по ходу выбрасывая всё лишнее, что мешает пути. Интересно, что сам момент созерцания Единого человеком добивается в том числе и через освобождения от дискурсивного разума, который может мешать чистому созерцанию. Это в своём роде «мудрое безумие», если так в принципе можно выразить эту мысль без искажения.
Более подробно этот момент освещен в статье А. Н. Муравьева, он пишет: «Человек должен пробудить в себе это состояние, выйдя за пределы своего чувственно-рассудочного сознания и взлетев душой к сверхчувственному и сверхрассудочному. Это и есть экстаз – выход за пределы всего конечного, многого к Единому самому по себе – воспарение духа в состояние непосредственного знания истины. Человеческая душа, оторвавшаяся таким образом от телесного и утратившая все представления, кроме представления о Едином, максимально приближается к божеству. Этот экстаз Плотин называет упрощением души, благодаря которому она достигает состояния блаженного покоя, поскольку предмет ее сам прост и безмятежен. Плотиновский экстаз, стало быть, это отнюдь не буйство; его можно сравнить с состоянием молитвы, которую человеческий дух обращает внутри себя, одинокого, к Единому, которое тоже одно».
Подобные представления «плотинизма» можно встретить не только в западном христианстве. У Флоренского в труде «Столп и утверждение Истины» апологетика Троицы фактически строится на чистом платонизме, где Ум появляется из Единого диалектически, А познаёт себя через своё отрицание, так появляется «не А», т. е. Б. Но «не А» не отрывается от А благодаря тому, что вновь возвращается к себе через третье – синтез.
Подводя итог, нужно сказать, что соотношение взглядов неоплатоников и христиан сложное. С одной стороны, греческая мысль добилась через упражнения философией понимания Бога достаточно близкого к христианскому откровению, и изначально они не пересекались между собой. У Плотина мы не можем найти ни полемику с христианством, ни упоминания его. И в то же время троичность Бога можно вывести независимо от неоплатонизма через Евангелие, что и проделали многие Отцы Церкви. Православная антропология, как и неоплатоническая, стоит на том, что природе человека присущ естественный нравственный закон. Он имеет всеобщий и безусловный характер. “Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую” (Рим 2:14–15).
И неоплатонизму, и христианскому богословию присуще представление, что человек ниспал из состояния первозданного совершенства. Однако неоплатоники видят падение души в развертывании ипостасей Единого, в материи как зле, куда ниспадают души скорее спонтанно. В православии говорится о конкретном действии, приведшем к грехопадению, когда человек сознательно и свободно поставил вместо воли Божией свою волю. Человек стал утверждать в себе самодовлеющее бытие, отвернувшись от Бога. В этом обособлении от источника жизни и заключалось грехопадение. Следствием такого решения было изменение природы человека. Прежде всего померкла любовь к Богу, предполагающая понимание человеком своей недостаточности и стремление восполнить ее союзом с Творцом.
Здесь нужно понимать, что сам момент спасения души в неоплатонизме и в христианстве трактуется в отличии друг от друга. Как удачно выразился Алексей Ситников в Альманахе «Альфа и Омега»: «В христианстве эта жизнь никогда не понимается как растворение в безличном море Божественного. Царство Божие означает прежде всего такой порядок вещей, где осуществляется воля Творца и где достигается, по слову Исаака Сирина, духовное созерцание, духовное ведение, общение со Святой Троицей при сохранении личностного бытия человека… Если Плотин призывает учеников очищаться от материи, то христиане не только в этой жизни не видят в материи самой по себе зло, но даже уповают на телесное воскресение. Напротив, дух может быть злым. В христианстве граница доброго и злого проходит не между духом и материей, но между благодатным духом, соединившимся с Духом Святым, и духом пустым от благодати, языческим, злым. Апостол Павел пишет, что брань наша не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных (Еф 6:12). Когда плоть восстает против духа, то за плотью надо видеть другие силы, действующие через нее».
Это разница хорошо подтверждается по отношению ко злу. Для Плотина зло есть лишенность Блага, и в то же время оно служит добру, поскольку делает людей бодрствующими и пробуждает их ум. Но христианин не будет оправдывать войну. Для Плотина же воин в какой-то мере освободитель души от её оков, отсюда же идёт оправдание многих войн, поскольку они с такой точки зрения быстрее возвращают душу через смерть к Благу.
Плотин повлиял на взгляды Оригена, чье учение было осуждено на Вселенском Соборе. Как мы знаем, оригенизм стал причиной арианства, с которым долгое время боролась Церковь. И в то же время Плотин повлиял на преподобного Максима Исповедника и блаженного Августина. Благодаря Плотину Августин удачно разгромил манихейство, которое учило о двух богах – добром и злом. Разгромил, благодаря представляю о зле как умалении Блага, представлению, которое подчерпнул у Плотина. Из этих же представлений появился Дионисий Ареопагит, использовавший некоторые идеи неоплатоников в своих книгах для миссионерской деятельности среди язычников, благодаря чему обратил в христианство многие народы. Всё это подчеркивает, что Плотин является фундаментальной фигурой как для философии неоплатоников, так и для христиан. От Плотина произошли многие ереси, от него же ускорилось развитие христианства и церковной миссионерии.
На арианство же можно смотреть по-разному. Среди историков есть мнение, что ранее православие на Руси было понято в арианском духе. Это в какой-то мере естественно, поскольку многие христиане впадают в ересь арианства из сложного понимания Троицы. Можно предположить, что это своеобразное понимание на Руси повлияло на становление двоеверия, где Христос признавался Богом, но свои покровители Рода не отрицались.
Борьба Афанасия Великого с Арием носила теологический характер, но, с другой стороны, 400 лет для раннего христианства не возникало таких проблем. Когда император Константин Великий поддержал созыв Собора, он привнёс в этот спор политику. А там, где начинается большая политика, заканчивается поиск истины. В этом споре обе стороны впали в крайности. И понятно желание многих епископов осудить оригенизм и арианство, т. к. они привносили неравенство, стремились разграничить понятие единосущности Сына Отцу (на чём настаивали последователи Афанасия после Никейского Собора) с понятием соприсущности Сына Отцу (на чём настаивал последователи Ария после Антиохийского Собора).
В какой-то мере Никейский Собор можно назвать отторжением христианством привнесенного неоплатонического наследия. Насколько это было правильно пусть каждый судит сам. Сегодня можно считать взгляд Ария хулой на Сына, но в то же время стоит помнить, насколько аргументы таких глобальных споров искажаются в современном понимании, где каждая сторона стремиться ошельмовать другую вне зависимости от исходных позиций. В такую же крайность впадают те, кто отрицает монотеизм христианства, ведь 3=1 после Никейского Собора. И в то же время не правы те, кто отрицает огромный пласт ангельского мира, святых и подвижников, пребывающих ближе всех к Богу, которым молятся и от которых получают помощь. Для языческой Руси эти святые и были богами. Через весь Ветхий Завет проводилась мысль о борьбе с идолами. «Пустышки» приводили к забвению Единого Бога, поэтому в глазах пророках были злом. Пафосом Единого Бога пронизан и ислам, его горячее борьба с отступниками-язычниками и христианами. Но он не может осознать, что для христианства святые не играют роль идолов. Точно также католические инквизиторы не понимали роль местных духов у покоряемых народов. Так что пантеизм и монотеизм достаточно сомнительные конструкции для описания метафизической картины во всей своей полноте.
Всё это подчёркивает не только сложность, но и судьбоносность взаимоотношений неоплатонизма и христианства.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: