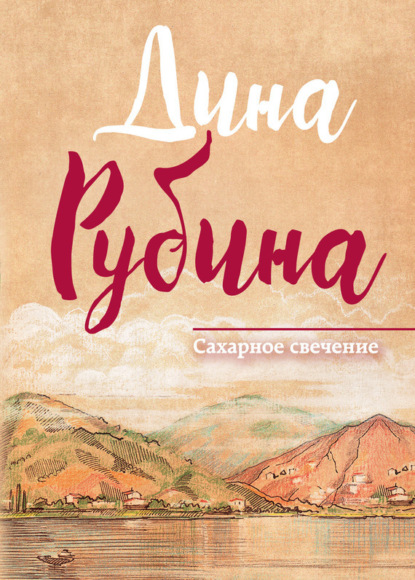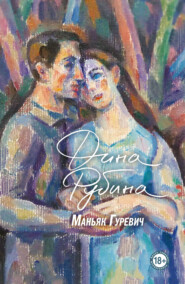По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сахарное свечение (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сахарное свечение (сборник)
Дина Ильинична Рубина
Малая проза (Эксмо)
В седьмую книгу вошли рассказы и повести, созданные Диной Рубиной в 2006–2010 годах. Изменился почерк писателя: все чаще факт, документ, непосредственное свидетельство вытесняют художественный вымысел. Потрясающая картина жизни прабабушки-цыганки воссоздана дальней родственницей; трагическая история Адама и Мирьям рассказана участницей событий; драматическая семейная история деда и Лаймы описана внучкой… Рассказчик, порой вытесняющий автора, вносит в прозу достоверность и подлинность. Хор голосов этой книги – реквием по безвременно ушедшим, жизнь которых раздавило огненное колесо времени, по убитым и исчезнувшим с лица земли.
Дина Рубина
Сахарное свечение
Дизайн серии и переплета: Александр Кудрявцев, студия «FOLD & SPINE»
В оформлении книги использована репродукция портрета Дины Рубиной работы Бориса Карафелова
В оформлении переплета использована репродукция картины Юлии Николаевой
Это было прекрасное время сотворения мира. Нашего собственного мира во всей его разноязыкой, разномастной и многоликой полноте. Это было время, когда мы вдруг осмелились высунуть нос в окно, куда задували заманчивые ветра странствий. Сейчас думаю: как же это произошло – ведь денег в семье было не больше, чем раньше? Неужели мы стали отважнее, неужели мечта увидеть мир подмигнула нам и бормотнула о том, что, мол, и наплевать, однова живем, а денег – их всегда не хватает, о том, что как-нибудь, в рассрочку, а потом помаленьку выплатим…
Сейчас уже и не вспомню. А вот то, как вдруг, переглянувшись, мы взялись за руки и вошли в туристическое агентство на улице королевы Шломционы в центре Иерусалима и как все мгновенно сложилось: и взлохмаченный турагент Саша сидел прямо в центре комнаты и улыбался нам обоим, и дешевые билеты подвернулись, и тут же выплыла недорогая гостиница, не какая-нибудь, а «Рембрандт», на одноименной площади в центре Амстердама…
Короче, судьба отозвалась на благородный порыв безденежного безумства и выпустила нас в Большой мир. И понеслось, и закрутилось, мы ощутили вкус и силу ветра странствий: Амстердам и Париж, Прага и Ницца, Мадрид и Прованс, Венеция и Рим, Неаполь и Сорренто… Мир оказался горячим, булькающим, пылким, волшебным… ибо жадно открывался и отдавался воображению писателя и художника; мир как бы знал, что будет вновь и вновь воплощаться в картинах и книгах.
Вообще рассказы, новеллы и повести, собранные под обложкой этой книги, созданы в очень симпатичное десятилетие нашей жизни, когда дети уже выросли, а родители еще были о-го-го, и мы почувствовали некую толику свободы, много работали, много разъезжали…ведь наша работа накрепко связана с впечатлениями, это неустанный труд зрения, воображения, мысли…
Как это ни удивительно, но именно в эти годы случилось и открытие Израиля – подлинное, глубинное постижение страны, ставшей родной и неотъемлемой, ставшей настоящим домом для нас и наших детей. И сын и дочь отслужили в армии, а это – особая причастность к духу и земле, к любви и судьбам близких.
В те же годы, видимо, потянуло меня к семье – к тем историям, от которых в юности раздраженно и нетерпеливо отмахиваешься, а потом уже и спросить не у кого. Мне повезло: мои родители старели медленно, помнили многое, и мне посчастливилось вовремя услышать и ощутить истории рода.
Так появились рассказы: «Душегубица», «Цыганка», «Бабка». И круг замкнулся: я поняла, что нахожусь в благословенной точке – на крутом гребне середины жизни, и просматриваю ее далеко, прекрасно освещенной, во всей ее полноте.
Триста восемьдесят пятая, строгого режима
Меня с детства интриговали цыгане.
Тогда я еще не знала о наличии в собственной семье толики цыганских генов и глазела на крикливые шайки бренчащих браслетами женщин, окруженных и обвешанных сопливыми мальцами, исключительно из вечной любви к ряженым: к карнавалу, к театру и вообще – к представлению…
Появлялись они чаще всего в районе Алайского базара, куда бабушка брала меня каждую неделю «скупаться», и на краснопесчаных дорожках сквера Революции, чудесного, ныне вырубленного ташкентского парка, где любили прогуливаться парочки. И это понятно: на Алайском легче всего было вытянуть кошелек у зазевавшейся хозяйки, а «на сквере» они охотились на влюбленных мужчин, не способных отказать предмету любви в просьбе «узнать судьбу».
Именно там, «на сквере», в конце сороковых, некая цыганка («она выскочила перед нами как черт из табакерки!») за три рубля и виртуозно стащенное с пальца кольцо конспективно и бесстрастно предсказала моей юной маме кое-какие события ее жизни, которые продолжают сбываться и сейчас.
Меня же – повторюсь – цыгане просто интриговали. Я совсем их не боялась – что с меня было взять? Правда, вокруг поговаривали, что они крадут детей, а потом заставляют их просить милостыню. Но этому я не слишком верила, а возможно, подсознательно даже и примеривала на себя такой вот образ вольной жизни. Не исключено, что меня увлекала подобная шикарная перспектива.
Однако никто из цыганок на меня не посягал, чаще просто отпихивали болтающуюся на пути зеваку.
Однажды я засмотрелась на цыганскую девочку моих примерно лет, очень гибкую, верткую, грязноватую, в трех юбках, надетых одна на другую. Чем-то она меня заворожила, и я с полчаса следовала за ней, то и дело забегая вперед, чтобы еще раз глянуть на продувную быстроглазую мордочку. В конце концов она заметила преследование, скорчила рожу, дернулась ко мне совершенно мальчишечьим обманным движением, будто хотела схватить или ударить, я рванула в сторону, она захохотала, сплюнула и пошла себе дальше, пританцовывая… И я пошла восвояси, не в силах объяснить себе, почему прицепилась именно к этой девчонке; и только вернувшись домой и мельком глянув на себя в зеркало в прихожей, все поняла: на меня смотрело ее отражение, той самой девчонки, едва ли не столь же грязной, после целого-то дня уличной гульбы.
Не то чтоб мне здесь нарочито вспомнился сюжет «Принца и нищего» – нет… Но, возможно, именно тогда впервые в мою лохматую башку стали приходить мысли… О разных людях. Об их схожести и различиях. Об обязанности и о воле. Наконец – о выборе между тем и этим. Я и сейчас думаю о подобных вещах, даже теперь, когда ни воли, ни выбора у меня уже нет – одни обязанности. И меня продолжают волновать и притягивать в людях именно эти качества: авантюризм, ведовство, неуемное беспокойство и – приверженность свободе, как внутренней, так и внешней.
Спустя много лет после детства я узнала про тщательно скрываемую бабкой историю о цыганке в нашем роду. Мне этот пикантный штрих чрезвычайно понравился. Я даже написала о ней рассказ. Но к тому времени меня давно перестали интриговать пестрые шайки притворно плаксивых смуглянок на вокзалах. Я лишь плотнее прижимала локтем сумку к боку и молча отпихивала их руки в тускло-золотых браслетах. Иногда насмешливо бросала в их сторону: «Отвали, я сама цыганка», – твердо уверенная, что ничего плохого эта братия сделать мне просто не в состоянии.
Однако году в 2008-м, приступая к написанию романа «Белая голубка Кордовы», решила проехаться по тем городам Испании, куда собиралась заслать моего авантюрного героя.
Так в нашем с мужем маршруте возникла Сеговия, с ее грандиозным собором и пряничным, многобашенным, многоарочным замком Алькасар – ни дать ни взять иллюстрацией к сказкам братьев Гримм.
Была суббота, сырой и ветреный ноябрь, время самое неуютное. То и дело припускал холодный острый дождик. Выйдя из Алькасара, мы накинули капюшоны курток и двинулись в поисках какого-нибудь уютного кафе.
Вдруг немного поодаль я заметила прилавок с навесом, на котором разложили свой товар две пожилые грудастые тетки какой-то простоватой внешности. Я решила, что они крестьянки, привезли в город свой товар. И потянула Бориса в сторону их крошечного базарчика.
Тетки торговали льняными вышитыми скатертями. Увидев нас и безошибочно издалека определив туристов, загалдели по-испански, выхватывая с прилавка какие-то салфетки, потрясая ими в воздухе, как флагами, зазывно крича: «Лийна, лийна!»
– Пойдем отсюда, на черта тебе двадцать пятая скатерть! – с досадой проговорил Борис. – К тому же это, кажется, цыгане.
– Да? – весело воскликнула я. – Великолепно! Пойдем посмотрим на испанских цыган. Они благородные – видишь, не попрошайничают, а торговлей занимаются.
Тетки при виде меня страшно воодушевились, кинулись навстречу, еще яростнее потрясая мануфактурой, выкрикивая на испанском: «Лен, чистый лен!» – или что-то вроде этого.
Я приступила к осмотру товаров, отмахиваясь от наседающих цыганок, вытаскивая из стопок скатерти, разворачивая, набрасывая их на деревянные столы, переворачивая вверх изнанкой… Борис стоял рядом с мученическим выражением на лице, какое всегда у него бывает в моменты моего упоения торгом…
Наконец, выбрав большую, жемчужного цвета скатерть, вышитую по краям черными оливками, с идиллическими зелеными веточками, я приступила к торговле. У Бориса сделалось еще более страдальческое лицо: в отличие от меня, выкормыша ташкентских базаров, он вырос на Украине и в те моменты, когда я демонстрирую блистательный талант спускать цену на любой товар вдвое (от помидоров до пятикомнатной квартиры), стыдится меня, как стыдятся в семье запойного алкоголика.
Дождик между тем закапал настойчивей; мы с тетками торговались все азартнее, в отсутствие общего языка хватая с прилавка блокнотик и огрызок карандаша и записывая предлагаемые цены. Наконец более старая и более толстая тетка махнула рукой и нацарапала на листке цифру 40, что-то ворчливо приговаривая…
– Умоляю… – сказал Борис. – Черт уже с ними, купи эту проклятую, не нужную тебе тряпку, плати, и пойдем отсюда!
– Ладно, – с явным сожалением, явно не доторговавшись до своей цены, вздохнула я и вытащила из нагрудного кармана куртки полтинник. С невероятным проворством цыганка выхватила у меня из рук купюру, продолжая что-то бурно и горячо приговаривать, указывая обеими руками куда-то вдаль и одновременно складывая скатерть. Затем откуда-то из-за прилавка выудила пластиковый мешочек и стала в него скатерть энергично запихивать… – словом, демонстрировала, наподобие индийского бога Шивы, какое-то фантастическое количество рук, в одной из которых намертво была зажата купюра в пятьдесят евро.
Наконец большая скатерть была утрамбована в мешочек, который тяжело покачивался на ее протянутой ко мне руке. И вот эта рука оказалась единственной оставшейся.
– А сдача? – предчувствуя нехорошее, осведомилась я. – Десять евро!
Они обе взорвались крикливым потоком испанской речи, указывая на кулек, разводя руками, как рыбак, хвастающийся пойманной рыбой; эти прохиндейки явно доказывали мне, что параметры данной скатерти проходят по другому прейскуранту.
– Десять евро!!! – крикнула я, протянув руку. И на иврите добавила: – Быстро!!!
Далее, как пишут в книжках, события стали развиваться с бешеной и увлекательной скоростью. От меня пятились, мне, завывая, протягивали обе пустые руки, демонстрируя, что с них нечего взять… С другой стороны меня стал хватать за плечи муж, пытаясь вытащить из свалки. Но все это было уже бесполезно: я вошла в штопор, меня сотрясала ярость. И дело, конечно, не в несчастных десяти монетах: просто кому ж охота оставаться в дураках! А мне, похоже, никем иным и не положено было остаться по вечному цыганскому сюжету. Ну уж нет!
Я ринулась на нее, крича по-русски:
– Бабка, сука, я душу из тебя вытрясу!!!
И что-то, очевидно, было в моем лице такое, что старуха отпрянула, что-то залопотала, отскочила за прилавок и принялась швырять в меня салфетками. Видимо, с деньгами она расстаться не могла просто на физическом уровне, не могла выпустить их из руки. И пресловутую сдачу выдавала салфетками.
Я вдруг мгновенно успокоилась.
– Видишь, – сказала я мужу, тяжело дыша, собирая салфетки и уминая их в тот же кулек. – Вот что значит уметь с этой публикой общаться на их языке.
Мы забрали свои трофеи и пошли прочь с поля боя. Между тем вслед нам неслась пламенная цыганская речуга, рокочущая, шипящая, струящаяся по ветру настоящей поэмой.
Мой муж вдруг остановился и сказал:
Дина Ильинична Рубина
Малая проза (Эксмо)
В седьмую книгу вошли рассказы и повести, созданные Диной Рубиной в 2006–2010 годах. Изменился почерк писателя: все чаще факт, документ, непосредственное свидетельство вытесняют художественный вымысел. Потрясающая картина жизни прабабушки-цыганки воссоздана дальней родственницей; трагическая история Адама и Мирьям рассказана участницей событий; драматическая семейная история деда и Лаймы описана внучкой… Рассказчик, порой вытесняющий автора, вносит в прозу достоверность и подлинность. Хор голосов этой книги – реквием по безвременно ушедшим, жизнь которых раздавило огненное колесо времени, по убитым и исчезнувшим с лица земли.
Дина Рубина
Сахарное свечение
Дизайн серии и переплета: Александр Кудрявцев, студия «FOLD & SPINE»
В оформлении книги использована репродукция портрета Дины Рубиной работы Бориса Карафелова
В оформлении переплета использована репродукция картины Юлии Николаевой
Это было прекрасное время сотворения мира. Нашего собственного мира во всей его разноязыкой, разномастной и многоликой полноте. Это было время, когда мы вдруг осмелились высунуть нос в окно, куда задували заманчивые ветра странствий. Сейчас думаю: как же это произошло – ведь денег в семье было не больше, чем раньше? Неужели мы стали отважнее, неужели мечта увидеть мир подмигнула нам и бормотнула о том, что, мол, и наплевать, однова живем, а денег – их всегда не хватает, о том, что как-нибудь, в рассрочку, а потом помаленьку выплатим…
Сейчас уже и не вспомню. А вот то, как вдруг, переглянувшись, мы взялись за руки и вошли в туристическое агентство на улице королевы Шломционы в центре Иерусалима и как все мгновенно сложилось: и взлохмаченный турагент Саша сидел прямо в центре комнаты и улыбался нам обоим, и дешевые билеты подвернулись, и тут же выплыла недорогая гостиница, не какая-нибудь, а «Рембрандт», на одноименной площади в центре Амстердама…
Короче, судьба отозвалась на благородный порыв безденежного безумства и выпустила нас в Большой мир. И понеслось, и закрутилось, мы ощутили вкус и силу ветра странствий: Амстердам и Париж, Прага и Ницца, Мадрид и Прованс, Венеция и Рим, Неаполь и Сорренто… Мир оказался горячим, булькающим, пылким, волшебным… ибо жадно открывался и отдавался воображению писателя и художника; мир как бы знал, что будет вновь и вновь воплощаться в картинах и книгах.
Вообще рассказы, новеллы и повести, собранные под обложкой этой книги, созданы в очень симпатичное десятилетие нашей жизни, когда дети уже выросли, а родители еще были о-го-го, и мы почувствовали некую толику свободы, много работали, много разъезжали…ведь наша работа накрепко связана с впечатлениями, это неустанный труд зрения, воображения, мысли…
Как это ни удивительно, но именно в эти годы случилось и открытие Израиля – подлинное, глубинное постижение страны, ставшей родной и неотъемлемой, ставшей настоящим домом для нас и наших детей. И сын и дочь отслужили в армии, а это – особая причастность к духу и земле, к любви и судьбам близких.
В те же годы, видимо, потянуло меня к семье – к тем историям, от которых в юности раздраженно и нетерпеливо отмахиваешься, а потом уже и спросить не у кого. Мне повезло: мои родители старели медленно, помнили многое, и мне посчастливилось вовремя услышать и ощутить истории рода.
Так появились рассказы: «Душегубица», «Цыганка», «Бабка». И круг замкнулся: я поняла, что нахожусь в благословенной точке – на крутом гребне середины жизни, и просматриваю ее далеко, прекрасно освещенной, во всей ее полноте.
Триста восемьдесят пятая, строгого режима
Меня с детства интриговали цыгане.
Тогда я еще не знала о наличии в собственной семье толики цыганских генов и глазела на крикливые шайки бренчащих браслетами женщин, окруженных и обвешанных сопливыми мальцами, исключительно из вечной любви к ряженым: к карнавалу, к театру и вообще – к представлению…
Появлялись они чаще всего в районе Алайского базара, куда бабушка брала меня каждую неделю «скупаться», и на краснопесчаных дорожках сквера Революции, чудесного, ныне вырубленного ташкентского парка, где любили прогуливаться парочки. И это понятно: на Алайском легче всего было вытянуть кошелек у зазевавшейся хозяйки, а «на сквере» они охотились на влюбленных мужчин, не способных отказать предмету любви в просьбе «узнать судьбу».
Именно там, «на сквере», в конце сороковых, некая цыганка («она выскочила перед нами как черт из табакерки!») за три рубля и виртуозно стащенное с пальца кольцо конспективно и бесстрастно предсказала моей юной маме кое-какие события ее жизни, которые продолжают сбываться и сейчас.
Меня же – повторюсь – цыгане просто интриговали. Я совсем их не боялась – что с меня было взять? Правда, вокруг поговаривали, что они крадут детей, а потом заставляют их просить милостыню. Но этому я не слишком верила, а возможно, подсознательно даже и примеривала на себя такой вот образ вольной жизни. Не исключено, что меня увлекала подобная шикарная перспектива.
Однако никто из цыганок на меня не посягал, чаще просто отпихивали болтающуюся на пути зеваку.
Однажды я засмотрелась на цыганскую девочку моих примерно лет, очень гибкую, верткую, грязноватую, в трех юбках, надетых одна на другую. Чем-то она меня заворожила, и я с полчаса следовала за ней, то и дело забегая вперед, чтобы еще раз глянуть на продувную быстроглазую мордочку. В конце концов она заметила преследование, скорчила рожу, дернулась ко мне совершенно мальчишечьим обманным движением, будто хотела схватить или ударить, я рванула в сторону, она захохотала, сплюнула и пошла себе дальше, пританцовывая… И я пошла восвояси, не в силах объяснить себе, почему прицепилась именно к этой девчонке; и только вернувшись домой и мельком глянув на себя в зеркало в прихожей, все поняла: на меня смотрело ее отражение, той самой девчонки, едва ли не столь же грязной, после целого-то дня уличной гульбы.
Не то чтоб мне здесь нарочито вспомнился сюжет «Принца и нищего» – нет… Но, возможно, именно тогда впервые в мою лохматую башку стали приходить мысли… О разных людях. Об их схожести и различиях. Об обязанности и о воле. Наконец – о выборе между тем и этим. Я и сейчас думаю о подобных вещах, даже теперь, когда ни воли, ни выбора у меня уже нет – одни обязанности. И меня продолжают волновать и притягивать в людях именно эти качества: авантюризм, ведовство, неуемное беспокойство и – приверженность свободе, как внутренней, так и внешней.
Спустя много лет после детства я узнала про тщательно скрываемую бабкой историю о цыганке в нашем роду. Мне этот пикантный штрих чрезвычайно понравился. Я даже написала о ней рассказ. Но к тому времени меня давно перестали интриговать пестрые шайки притворно плаксивых смуглянок на вокзалах. Я лишь плотнее прижимала локтем сумку к боку и молча отпихивала их руки в тускло-золотых браслетах. Иногда насмешливо бросала в их сторону: «Отвали, я сама цыганка», – твердо уверенная, что ничего плохого эта братия сделать мне просто не в состоянии.
Однако году в 2008-м, приступая к написанию романа «Белая голубка Кордовы», решила проехаться по тем городам Испании, куда собиралась заслать моего авантюрного героя.
Так в нашем с мужем маршруте возникла Сеговия, с ее грандиозным собором и пряничным, многобашенным, многоарочным замком Алькасар – ни дать ни взять иллюстрацией к сказкам братьев Гримм.
Была суббота, сырой и ветреный ноябрь, время самое неуютное. То и дело припускал холодный острый дождик. Выйдя из Алькасара, мы накинули капюшоны курток и двинулись в поисках какого-нибудь уютного кафе.
Вдруг немного поодаль я заметила прилавок с навесом, на котором разложили свой товар две пожилые грудастые тетки какой-то простоватой внешности. Я решила, что они крестьянки, привезли в город свой товар. И потянула Бориса в сторону их крошечного базарчика.
Тетки торговали льняными вышитыми скатертями. Увидев нас и безошибочно издалека определив туристов, загалдели по-испански, выхватывая с прилавка какие-то салфетки, потрясая ими в воздухе, как флагами, зазывно крича: «Лийна, лийна!»
– Пойдем отсюда, на черта тебе двадцать пятая скатерть! – с досадой проговорил Борис. – К тому же это, кажется, цыгане.
– Да? – весело воскликнула я. – Великолепно! Пойдем посмотрим на испанских цыган. Они благородные – видишь, не попрошайничают, а торговлей занимаются.
Тетки при виде меня страшно воодушевились, кинулись навстречу, еще яростнее потрясая мануфактурой, выкрикивая на испанском: «Лен, чистый лен!» – или что-то вроде этого.
Я приступила к осмотру товаров, отмахиваясь от наседающих цыганок, вытаскивая из стопок скатерти, разворачивая, набрасывая их на деревянные столы, переворачивая вверх изнанкой… Борис стоял рядом с мученическим выражением на лице, какое всегда у него бывает в моменты моего упоения торгом…
Наконец, выбрав большую, жемчужного цвета скатерть, вышитую по краям черными оливками, с идиллическими зелеными веточками, я приступила к торговле. У Бориса сделалось еще более страдальческое лицо: в отличие от меня, выкормыша ташкентских базаров, он вырос на Украине и в те моменты, когда я демонстрирую блистательный талант спускать цену на любой товар вдвое (от помидоров до пятикомнатной квартиры), стыдится меня, как стыдятся в семье запойного алкоголика.
Дождик между тем закапал настойчивей; мы с тетками торговались все азартнее, в отсутствие общего языка хватая с прилавка блокнотик и огрызок карандаша и записывая предлагаемые цены. Наконец более старая и более толстая тетка махнула рукой и нацарапала на листке цифру 40, что-то ворчливо приговаривая…
– Умоляю… – сказал Борис. – Черт уже с ними, купи эту проклятую, не нужную тебе тряпку, плати, и пойдем отсюда!
– Ладно, – с явным сожалением, явно не доторговавшись до своей цены, вздохнула я и вытащила из нагрудного кармана куртки полтинник. С невероятным проворством цыганка выхватила у меня из рук купюру, продолжая что-то бурно и горячо приговаривать, указывая обеими руками куда-то вдаль и одновременно складывая скатерть. Затем откуда-то из-за прилавка выудила пластиковый мешочек и стала в него скатерть энергично запихивать… – словом, демонстрировала, наподобие индийского бога Шивы, какое-то фантастическое количество рук, в одной из которых намертво была зажата купюра в пятьдесят евро.
Наконец большая скатерть была утрамбована в мешочек, который тяжело покачивался на ее протянутой ко мне руке. И вот эта рука оказалась единственной оставшейся.
– А сдача? – предчувствуя нехорошее, осведомилась я. – Десять евро!
Они обе взорвались крикливым потоком испанской речи, указывая на кулек, разводя руками, как рыбак, хвастающийся пойманной рыбой; эти прохиндейки явно доказывали мне, что параметры данной скатерти проходят по другому прейскуранту.
– Десять евро!!! – крикнула я, протянув руку. И на иврите добавила: – Быстро!!!
Далее, как пишут в книжках, события стали развиваться с бешеной и увлекательной скоростью. От меня пятились, мне, завывая, протягивали обе пустые руки, демонстрируя, что с них нечего взять… С другой стороны меня стал хватать за плечи муж, пытаясь вытащить из свалки. Но все это было уже бесполезно: я вошла в штопор, меня сотрясала ярость. И дело, конечно, не в несчастных десяти монетах: просто кому ж охота оставаться в дураках! А мне, похоже, никем иным и не положено было остаться по вечному цыганскому сюжету. Ну уж нет!
Я ринулась на нее, крича по-русски:
– Бабка, сука, я душу из тебя вытрясу!!!
И что-то, очевидно, было в моем лице такое, что старуха отпрянула, что-то залопотала, отскочила за прилавок и принялась швырять в меня салфетками. Видимо, с деньгами она расстаться не могла просто на физическом уровне, не могла выпустить их из руки. И пресловутую сдачу выдавала салфетками.
Я вдруг мгновенно успокоилась.
– Видишь, – сказала я мужу, тяжело дыша, собирая салфетки и уминая их в тот же кулек. – Вот что значит уметь с этой публикой общаться на их языке.
Мы забрали свои трофеи и пошли прочь с поля боя. Между тем вслед нам неслась пламенная цыганская речуга, рокочущая, шипящая, струящаяся по ветру настоящей поэмой.
Мой муж вдруг остановился и сказал: