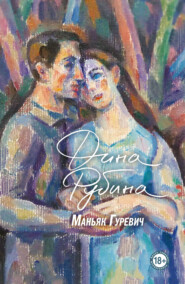По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская канарейка. Блудный сын
Автор
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но одну из спален в бесконечных коридорах замка хозяева привели в удовлетворительный вид и сдавали неприхотливым путешественникам («Тоже грош, какой-никакой», – говорила Шарлотта). Года два назад Леон провел у них три безмятежных летних дня между двумя концертами – в Брюсселе и Брюгге, скармливая ослику все, что выносил после завтрака, весьма щедрого для такого скромного пансиона.
– Там есть огромная спальня, – сказал он, правой рукой растирая заледеневшие в мокрых джинсах колени Айи. – Такие перины, ах и вах! А у меня есть принцесса, которую я с упоением уложу на горошину…
– Смотри на дорогу, не трепись! – воскликнула она, трясясь от холода и обнимая себя обеими руками. – И руль держи! Если мы еще перевернемся…
Но они не перевернулись, хотя и проблуждали добрых часа полтора под обложным дождем. Ночь захлебывалась в могучих струях воды, раскачивала, трепала машину, обрушивала водопады на лобовое стекло. И Леон, и Айя совершенно окоченели, нахохлились, успели дважды поссориться. Кроме того, стрелка индикатора топлива уныло клонилась вниз, настойчиво намекая: подкормите лошадку…
Наконец нужный указатель вспыхнул в свете замызганных фар; оба они дико вскрикнули, свернули, еще раз свернули – на сей раз прямо в распахнутые ворота шато, которые никто никогда не закрывал. Въехали между двумя облупленными кирпичными колоннами, на каждой из которых грузно восседал нахохленный каменный грифон с фонарем в клюве, и покатили по воющему от штормовых порывов парку. Деревья раскачивались, как толпа безумных фурий. Впереди на холме мрачно громоздилась зубчатая туча, густо заштрихованная ливнем, – это и был замок. Слава богу: в трех окнах хозяйского этажа горел свет. Здесь поздно ложились.
Леон проехал длинную, в рытвинах, подъездную аллею («Если у них и в комнатах такие ямы, – пробормотала Айя, хватаясь за что попало – за колени Леона, за спинку сиденья, даже за руль, – то лучше уж в машине заночевать»), свернул к западному входу и прогудел тремя протяжными сигналами – больше шансов, что хозяева услышат полуночных гостей: дверной звонок мог быть испорчен.
И правда, через пару минут дверь приоткрылась, из нее выпал столб желтого света, в котором возникла долговязая мужская фигура. Приспустив боковое стекло, Леон крикнул:
– Марк! Принимай несчастных, хочешь или нет!
Марк в ответ что-то приветливо и бодро гаркнул, хотя по интонации Леон понял, что в пелене дождя гостя тот не узнал. Но к гостям здесь привыкли и принимали в любой степени опьянения, безумия, обнищания и влажности. Возможно, сказывалась славистская закваска Марка: в молодости он года три ошивался в Ленинграде, якобы одолевая аспирантуру, а на деле борясь за чьи-то права и с опасностью для жизни провозя в замурзанном рюкзаке и за ремнем джинсов запрещенную литературу.
Прихватив с вешалки в холле старый клеенчатый плащ, Марк сбежал по ступеням к машине и тут лишь узнал Леона: сквозь потеки дождя на стекле Айя видела бурные, судя по губам, восклицания по-французски.
Леон выскочил и врезался в его пылкие объятия. Затем они извлекли из машины Айю, клетку с обморочным Желтухиным, с головой укутали их в плащ, так что старая пыль, прибитая дождем, сразу же забилась в волосы, глаза и ноздри, и потащили эту странную фигуру (Марк крикнул по-русски: «Инсталляц девущка с папигайчик!»), обнимая с двух сторон, неуклюже взбираясь по ступеням к двери. Когда ввалились в холл, всех троих – и Айю, несмотря на плащ, – можно было вешать на просушку над камином, если бы тот работал. Но он не работал уже несколько лет – по запрету пожарной службы.
Здесь горела одна-единственная лампа где-то в горних высях потолка, освещая высокую резную дверь парадной залы (темный дуб, щедро отделанный бронзой). А дальше простиралась великая тьма гигантского холла. Светя под ноги фонариком, хозяин провел гостей к подножию величественной (даже в этом скудном свете) мраморной лестницы, и, оставляя мокрые следы на протертом ковре, они стали подниматься в жилые покои семьи – великое восхождение к престолу увядшей королевской славы: миновали галерею для менестрелей, несколько переходов с плавными полукружьями мраморных перил. Наконец Марк толкнул дверь третьей или четвертой справа по коридору комнаты, откуда хлынули свет и тепло, и гости вдруг попали в ярко освещенный, благоуханный, кофейный, шоколадный, хлебный, жарко натопленный рай.
Кухня была прямо-таки королевского размаха: в центре над пылающей чугунной печью сияла обитая красной медью огромная вытяжная труба-геликон, которой вторила надраенная медь развешанной по стенам кухонной утвари. В углу пришепетывал современный газовый камин с тихой бурей голубых огоньков за стеклом. Все это сливочным блеском отражал и множил прекрасно сохранившийся старинный кафель стен. По шоколадным плиткам пола гонял на трехколесном велосипеде четырехлетний малыш, огибая мраморный разделочный стол, за которым примостился с ноутбуком старший сын лет семнадцати. А из глубокого потертого кресла уже выпрастывалась навстречу гостям толстуха Шарлотта (опять восклицания, объятия, быстрая, как полет стрижа, французская речь под писк обалдевшего – уже от тепла и света – Желтухина).
Леон извлек из дорожной сумки две бутылки бордоского «Saint-Emilion». Из холодильника приплыли сыр, маслины, какой-то буро-томатный салат в пластиковой коробке, и главное – ура! – багет и масло, и баночка не то варенья, не то джема. Тут же был снят с гвоздя за дверью необъятный флисовый хозяйкин халат, и, дважды в него обернутая, Айя утонула в кресле Шарлотты, готовая тут же заснуть… и заснула! Но минут через пять ее растормошили, придвинули вместе с креслом к столу, сунули в руки пузатую фаянсовую чашку крепкого чая с толикой лимонного ликера – от простуды. И затем оставили в покое.
Все трое – Марк, Леон и Шарлотта, – судя по бешеной артикуляции и ежесекундному смеху в запрокинутых лицах, были увлечены оживленной перепалкой; Леон, кажется, даже принимался петь. В теплом воздухе плыли ароматы чая, кофе, душистого лимонного ликера, разогретого в печке багета. Пацан на велике нарезал вокруг стола опасные круги, не обращая внимания на окрики взрослых.
Айя прикрыла глаза, отплывая все дальше в блаженном озере тепла и света, ничего не желая, кроме как сидеть здесь и сидеть, утонув в пушистом коконе хозяйского халата. И если б ей сказали, что она останется в кресле до утра, она была бы абсолютно счастлива. И полагала, что так оно и устроится.
Но минут через сорок, когда оба ребенка – и большой и малый – были отправлены спать, Айю опять растормошили, всучили клетку с уснувшим Желтухиным, потащили из кухни. Прихватив фонарик, Марк пошел сопроводить их до «апартамента».
И вот эта дорога была едва ли не длиннее их дороги сюда из Брюсселя. Возможно, потому, что шли в темноте, за скудным лучом электрического фонарика, обходя опасные выбоины в паркете. Под ногами на все лады всхлипывали и крякали прогнившие половицы. То справа, то слева их обгоняли зловещие тени, лежа бегущие по стенам, где, как в теневом театре, вырастала гигантская клетка с нахохленной тенью Желтухина и уплывала к черным балкам потолка. Луч фонаря выхватывал пузырящиеся останки обоев позапрошлого века – тисненые «флёр-де-лис», золотистые «бурбонские» лилии с прорехами красного кирпича.
Айя чувствовала себя внутри какого-то барочного романа: бесконечные коридоры этой сюрреалистической коммуналки (вереница дверей справа, вереница – слева) казались сном, наваждением, чередой кадров из позабытого старого фильма о призраке замка. Летучих мышей тут не хватало. Впрочем, в других крыльях замка, возможно, водились и они.
– Сколько тут комнат? – спросила она, тронув Марка за руку.
– На этаже? – спросил Марк, обернувшись.
– Нет, вообще, в замке?
Он рассмеялся, будто она спросила о количестве птиц в здешнем парке, тоже взял ее за руку и ласково сказал:
– Кто ж их может сосчитать, дорогая. Здесь веками достраивалось то и это, потом еще какое-то крыло, и еще пристройка, и еще башенка… И кому понадобилась бы эта статистика?
Нужную спальню сам хозяин отыскал с третьей попытки: вначале сунулись в комнату с пыльной тушей старого рояля среди обломков стульев и оттоманок, затем нырнули в какую-то, судя по высоким книжным стеллажам, библиотеку, трижды в коридорах шарахались от зеркал, с амальгамой, изъеденной, как тело прокаженного: зловещие рожи, что глядели оттуда, оказывались их собственными лицами, подпаленными светом фонарика…
Наконец, одолев очередное колено этого сновиденного коридора, Марк завернул за угол, издал охотничий вопль, толкнул дверь и, нашарив выключатель, щелкнул.
Здесь ожили и люстра, и два прикроватных бра. Выплыла – на подиуме, как сцена в кафешантане, – огромная, с резным изголовьем, с жеманным кисейным пологом дубовая кровать, идеально застеленная белоснежным бельем. У стены напротив – такой же дубовый заковыристый шкаф, типа исповедальни из ташкентского костела, длинная скамья с высокой спинкой и комод, на который и была немедленно водружена клетка с притихшим от страха и качки Желтухиным.
Ничего лишнего в этой комнате не было, кроме грандиозного кресла с такой же резной лиственно-желудевой спинкой чрезвычайной высоты и строгости – кресла, явно перевезенного в опочивальню из зала королевского суда.
Это был блаженный конец пути, их ночлег, их райская обитель…
Марк, несколько смущенный лоцман, улыбнулся Айе и сказал:
– Надеюсь, дорогая, этот наглец не посмеет вас тревожить, и вы проспите ночь, полностью откинув копыта. – И Леону: – Старина, весь этаж в вашем распоряжении. Ты еще помнишь, где ванная?
– Да, тут недалеко, – ответил Леон, – километров пять. Но…
– Но горячей воды сегодня нет, – покладисто завершил Марк, вручая им фонарик, как букет фиалок – лампочкой кверху; после чего бесстрашно канул во тьму. И откуда-то (из какого камина?) докрикнул с дружеским смешком: – Только снимите обувь, когда полезете в кровать! И сами виноваты, предупреждать на… – Дальше эхо заструилось ему вслед, уползло, шурша вслед угасающим шагам.
– Он что-то сказал? – спросила Айя.
– Ничего хорошего, моя бедная принцесса. Пойдем все же, попытаем счастья в этой проклятой ванной?
Минут десять кротовьих блужданий под шуточки Леона, что метки надо бы ставить, как Том Сойер – на стенах пещеры, потребовались, чтобы разыскать ванную. Нашарили выключатель – и сиротский свет одинокой лампочки явил им стылое великолепие мраморных площадей.
– Вот это да-а-а… – прошептала зачарованная Айя. – Где кончается сия бальная зала? И где обещанная галерея для менестрелей?
Действительно, огромное до оторопи помещение можно было запросто принять за что угодно: зал конгрессов ООН, главную площадку Карнеги-холла… Одинокая лампочка – высоко, в небесах потолка – не в силах была зажечь и умножить огни в подвесках хрустальной люстры. В этом жидком, как спитой чай, свете (Барышня такой чай называла «пишерс»[2 - Моча (искаж. идиш).] и требовала, чтобы экономная Стеша немедленно заварила свежий черный прямо в ее стакане) торжественными ладьями плыли вдоль стен две глубокие, обшитые красным деревом мраморные ванны. Из оскаленных пастей бронзовых львиных морд торчали бронзовые краны.
От всего веяло холодом склепа: от бугристых стен (те же обои «флёр-де-лис», темные, как кожа христианских мучеников), от огромных высоченных окон с бархатными портьерами, от мраморного столика, от кокетливого новенького биде и шаткого унитаза шестидесятых годов прошлого столетия, с подвесным бачком и свисающей на цепи фаянсовой грушей. Когда окоченевшей рукой Айя открыла кран, из него полилась струйка ледяной воды.
Так что из всех предметов этой блистательной залы они решились почтить вниманием только унитаз, после чего пустились в обратный путь мрачными катакомбами коридоров, трижды обознавшись на тех же поворотах: сначала уткнувшись в тусклый бок давно онемевшего рояля, потом сунувшись в библиотеку.
Сколупнув только обувь, и то по наказу Марка и из уважения к трудам хозяйки, в постель заползли одетыми, не сняв ни свитеров, ни джинсов («Ночь любви отменяется, и меня не осудит даже изголодавшийся подводник», – бормотал Леон), обнялись покрепче и закопались под одеяло, как в сугроб, выбивая зубами мелкий зуммер.
Посреди ночи Леон не выдержал, вскочил, сорвал одну из портьер и накрылся с головой пыльным бархатом давно усопших королей…
* * *
…который утром оказался истинно королевским: винно-красным, ликующим, неумирающим, и курился мириадами веселых пылинок, облегая силуэт спящей на боку Айи.
Плита солнечного света, косо вывалившись из высокого окна, лишенного ночью гардины, падала на обои цвета топленого молока или старой кости – местами они потемнели до умбры жженой, но сохранили грубую текстуру дорогих обоев позапрошлого века: все тот же рельеф «бурбонских лилий», благородная труха поблескивающей в утреннем солнце позолоты.
Сейчас комната выглядела светлой и просторной; всюду – на столбцах балдахина, карнизах и дверцах шкафа, на высокой спинке прокурорского кресла – весело лепетали резные дубовые листья, пересыпанные ядреными желудями.
Изголовье кровати, сработанное искусным резчиком, являло собой кавалькаду пышнотелых нимф, окру живших разнузданного сатира. Видимо, лет триста назад сей игривый барельеф служил хозяевам замка чем-то вроде возбуждающей картинки из «Плейбоя».
Вместо сорванной гардины голубело небо, усердно протертое вчерашней бурей, а откуда-то снизу (чудесное наваждение? ведь это не может быть записью?!) – поднимались «Дунайские волны» в живом исполнении симфонического оркестра – конечно, малый состав, но и того хватит, чтобы согнать ослика с его газона.
Откуда оркестр? Ну да, в прошлый раз Марк рассказывал о своем друге, дирижере местного городского коллектива: тот конфликтует с кем-то из администрации концертного зала, и потому по выходным дням Марк пускает оркестрантов репетировать в замке…
Музыка, несмотря на «волновую природу звука», не могла разбудить «принцессу на горошине», закутанную в портьеру, в одеяло, одетую в джинсы, майку и джемпер: слишком надежно упаковано это чуткое тело. Айя крепко спала: пунцовая щека, належенная за ночь, даже на взгляд излучала жар.
– Там есть огромная спальня, – сказал он, правой рукой растирая заледеневшие в мокрых джинсах колени Айи. – Такие перины, ах и вах! А у меня есть принцесса, которую я с упоением уложу на горошину…
– Смотри на дорогу, не трепись! – воскликнула она, трясясь от холода и обнимая себя обеими руками. – И руль держи! Если мы еще перевернемся…
Но они не перевернулись, хотя и проблуждали добрых часа полтора под обложным дождем. Ночь захлебывалась в могучих струях воды, раскачивала, трепала машину, обрушивала водопады на лобовое стекло. И Леон, и Айя совершенно окоченели, нахохлились, успели дважды поссориться. Кроме того, стрелка индикатора топлива уныло клонилась вниз, настойчиво намекая: подкормите лошадку…
Наконец нужный указатель вспыхнул в свете замызганных фар; оба они дико вскрикнули, свернули, еще раз свернули – на сей раз прямо в распахнутые ворота шато, которые никто никогда не закрывал. Въехали между двумя облупленными кирпичными колоннами, на каждой из которых грузно восседал нахохленный каменный грифон с фонарем в клюве, и покатили по воющему от штормовых порывов парку. Деревья раскачивались, как толпа безумных фурий. Впереди на холме мрачно громоздилась зубчатая туча, густо заштрихованная ливнем, – это и был замок. Слава богу: в трех окнах хозяйского этажа горел свет. Здесь поздно ложились.
Леон проехал длинную, в рытвинах, подъездную аллею («Если у них и в комнатах такие ямы, – пробормотала Айя, хватаясь за что попало – за колени Леона, за спинку сиденья, даже за руль, – то лучше уж в машине заночевать»), свернул к западному входу и прогудел тремя протяжными сигналами – больше шансов, что хозяева услышат полуночных гостей: дверной звонок мог быть испорчен.
И правда, через пару минут дверь приоткрылась, из нее выпал столб желтого света, в котором возникла долговязая мужская фигура. Приспустив боковое стекло, Леон крикнул:
– Марк! Принимай несчастных, хочешь или нет!
Марк в ответ что-то приветливо и бодро гаркнул, хотя по интонации Леон понял, что в пелене дождя гостя тот не узнал. Но к гостям здесь привыкли и принимали в любой степени опьянения, безумия, обнищания и влажности. Возможно, сказывалась славистская закваска Марка: в молодости он года три ошивался в Ленинграде, якобы одолевая аспирантуру, а на деле борясь за чьи-то права и с опасностью для жизни провозя в замурзанном рюкзаке и за ремнем джинсов запрещенную литературу.
Прихватив с вешалки в холле старый клеенчатый плащ, Марк сбежал по ступеням к машине и тут лишь узнал Леона: сквозь потеки дождя на стекле Айя видела бурные, судя по губам, восклицания по-французски.
Леон выскочил и врезался в его пылкие объятия. Затем они извлекли из машины Айю, клетку с обморочным Желтухиным, с головой укутали их в плащ, так что старая пыль, прибитая дождем, сразу же забилась в волосы, глаза и ноздри, и потащили эту странную фигуру (Марк крикнул по-русски: «Инсталляц девущка с папигайчик!»), обнимая с двух сторон, неуклюже взбираясь по ступеням к двери. Когда ввалились в холл, всех троих – и Айю, несмотря на плащ, – можно было вешать на просушку над камином, если бы тот работал. Но он не работал уже несколько лет – по запрету пожарной службы.
Здесь горела одна-единственная лампа где-то в горних высях потолка, освещая высокую резную дверь парадной залы (темный дуб, щедро отделанный бронзой). А дальше простиралась великая тьма гигантского холла. Светя под ноги фонариком, хозяин провел гостей к подножию величественной (даже в этом скудном свете) мраморной лестницы, и, оставляя мокрые следы на протертом ковре, они стали подниматься в жилые покои семьи – великое восхождение к престолу увядшей королевской славы: миновали галерею для менестрелей, несколько переходов с плавными полукружьями мраморных перил. Наконец Марк толкнул дверь третьей или четвертой справа по коридору комнаты, откуда хлынули свет и тепло, и гости вдруг попали в ярко освещенный, благоуханный, кофейный, шоколадный, хлебный, жарко натопленный рай.
Кухня была прямо-таки королевского размаха: в центре над пылающей чугунной печью сияла обитая красной медью огромная вытяжная труба-геликон, которой вторила надраенная медь развешанной по стенам кухонной утвари. В углу пришепетывал современный газовый камин с тихой бурей голубых огоньков за стеклом. Все это сливочным блеском отражал и множил прекрасно сохранившийся старинный кафель стен. По шоколадным плиткам пола гонял на трехколесном велосипеде четырехлетний малыш, огибая мраморный разделочный стол, за которым примостился с ноутбуком старший сын лет семнадцати. А из глубокого потертого кресла уже выпрастывалась навстречу гостям толстуха Шарлотта (опять восклицания, объятия, быстрая, как полет стрижа, французская речь под писк обалдевшего – уже от тепла и света – Желтухина).
Леон извлек из дорожной сумки две бутылки бордоского «Saint-Emilion». Из холодильника приплыли сыр, маслины, какой-то буро-томатный салат в пластиковой коробке, и главное – ура! – багет и масло, и баночка не то варенья, не то джема. Тут же был снят с гвоздя за дверью необъятный флисовый хозяйкин халат, и, дважды в него обернутая, Айя утонула в кресле Шарлотты, готовая тут же заснуть… и заснула! Но минут через пять ее растормошили, придвинули вместе с креслом к столу, сунули в руки пузатую фаянсовую чашку крепкого чая с толикой лимонного ликера – от простуды. И затем оставили в покое.
Все трое – Марк, Леон и Шарлотта, – судя по бешеной артикуляции и ежесекундному смеху в запрокинутых лицах, были увлечены оживленной перепалкой; Леон, кажется, даже принимался петь. В теплом воздухе плыли ароматы чая, кофе, душистого лимонного ликера, разогретого в печке багета. Пацан на велике нарезал вокруг стола опасные круги, не обращая внимания на окрики взрослых.
Айя прикрыла глаза, отплывая все дальше в блаженном озере тепла и света, ничего не желая, кроме как сидеть здесь и сидеть, утонув в пушистом коконе хозяйского халата. И если б ей сказали, что она останется в кресле до утра, она была бы абсолютно счастлива. И полагала, что так оно и устроится.
Но минут через сорок, когда оба ребенка – и большой и малый – были отправлены спать, Айю опять растормошили, всучили клетку с уснувшим Желтухиным, потащили из кухни. Прихватив фонарик, Марк пошел сопроводить их до «апартамента».
И вот эта дорога была едва ли не длиннее их дороги сюда из Брюсселя. Возможно, потому, что шли в темноте, за скудным лучом электрического фонарика, обходя опасные выбоины в паркете. Под ногами на все лады всхлипывали и крякали прогнившие половицы. То справа, то слева их обгоняли зловещие тени, лежа бегущие по стенам, где, как в теневом театре, вырастала гигантская клетка с нахохленной тенью Желтухина и уплывала к черным балкам потолка. Луч фонаря выхватывал пузырящиеся останки обоев позапрошлого века – тисненые «флёр-де-лис», золотистые «бурбонские» лилии с прорехами красного кирпича.
Айя чувствовала себя внутри какого-то барочного романа: бесконечные коридоры этой сюрреалистической коммуналки (вереница дверей справа, вереница – слева) казались сном, наваждением, чередой кадров из позабытого старого фильма о призраке замка. Летучих мышей тут не хватало. Впрочем, в других крыльях замка, возможно, водились и они.
– Сколько тут комнат? – спросила она, тронув Марка за руку.
– На этаже? – спросил Марк, обернувшись.
– Нет, вообще, в замке?
Он рассмеялся, будто она спросила о количестве птиц в здешнем парке, тоже взял ее за руку и ласково сказал:
– Кто ж их может сосчитать, дорогая. Здесь веками достраивалось то и это, потом еще какое-то крыло, и еще пристройка, и еще башенка… И кому понадобилась бы эта статистика?
Нужную спальню сам хозяин отыскал с третьей попытки: вначале сунулись в комнату с пыльной тушей старого рояля среди обломков стульев и оттоманок, затем нырнули в какую-то, судя по высоким книжным стеллажам, библиотеку, трижды в коридорах шарахались от зеркал, с амальгамой, изъеденной, как тело прокаженного: зловещие рожи, что глядели оттуда, оказывались их собственными лицами, подпаленными светом фонарика…
Наконец, одолев очередное колено этого сновиденного коридора, Марк завернул за угол, издал охотничий вопль, толкнул дверь и, нашарив выключатель, щелкнул.
Здесь ожили и люстра, и два прикроватных бра. Выплыла – на подиуме, как сцена в кафешантане, – огромная, с резным изголовьем, с жеманным кисейным пологом дубовая кровать, идеально застеленная белоснежным бельем. У стены напротив – такой же дубовый заковыристый шкаф, типа исповедальни из ташкентского костела, длинная скамья с высокой спинкой и комод, на который и была немедленно водружена клетка с притихшим от страха и качки Желтухиным.
Ничего лишнего в этой комнате не было, кроме грандиозного кресла с такой же резной лиственно-желудевой спинкой чрезвычайной высоты и строгости – кресла, явно перевезенного в опочивальню из зала королевского суда.
Это был блаженный конец пути, их ночлег, их райская обитель…
Марк, несколько смущенный лоцман, улыбнулся Айе и сказал:
– Надеюсь, дорогая, этот наглец не посмеет вас тревожить, и вы проспите ночь, полностью откинув копыта. – И Леону: – Старина, весь этаж в вашем распоряжении. Ты еще помнишь, где ванная?
– Да, тут недалеко, – ответил Леон, – километров пять. Но…
– Но горячей воды сегодня нет, – покладисто завершил Марк, вручая им фонарик, как букет фиалок – лампочкой кверху; после чего бесстрашно канул во тьму. И откуда-то (из какого камина?) докрикнул с дружеским смешком: – Только снимите обувь, когда полезете в кровать! И сами виноваты, предупреждать на… – Дальше эхо заструилось ему вслед, уползло, шурша вслед угасающим шагам.
– Он что-то сказал? – спросила Айя.
– Ничего хорошего, моя бедная принцесса. Пойдем все же, попытаем счастья в этой проклятой ванной?
Минут десять кротовьих блужданий под шуточки Леона, что метки надо бы ставить, как Том Сойер – на стенах пещеры, потребовались, чтобы разыскать ванную. Нашарили выключатель – и сиротский свет одинокой лампочки явил им стылое великолепие мраморных площадей.
– Вот это да-а-а… – прошептала зачарованная Айя. – Где кончается сия бальная зала? И где обещанная галерея для менестрелей?
Действительно, огромное до оторопи помещение можно было запросто принять за что угодно: зал конгрессов ООН, главную площадку Карнеги-холла… Одинокая лампочка – высоко, в небесах потолка – не в силах была зажечь и умножить огни в подвесках хрустальной люстры. В этом жидком, как спитой чай, свете (Барышня такой чай называла «пишерс»[2 - Моча (искаж. идиш).] и требовала, чтобы экономная Стеша немедленно заварила свежий черный прямо в ее стакане) торжественными ладьями плыли вдоль стен две глубокие, обшитые красным деревом мраморные ванны. Из оскаленных пастей бронзовых львиных морд торчали бронзовые краны.
От всего веяло холодом склепа: от бугристых стен (те же обои «флёр-де-лис», темные, как кожа христианских мучеников), от огромных высоченных окон с бархатными портьерами, от мраморного столика, от кокетливого новенького биде и шаткого унитаза шестидесятых годов прошлого столетия, с подвесным бачком и свисающей на цепи фаянсовой грушей. Когда окоченевшей рукой Айя открыла кран, из него полилась струйка ледяной воды.
Так что из всех предметов этой блистательной залы они решились почтить вниманием только унитаз, после чего пустились в обратный путь мрачными катакомбами коридоров, трижды обознавшись на тех же поворотах: сначала уткнувшись в тусклый бок давно онемевшего рояля, потом сунувшись в библиотеку.
Сколупнув только обувь, и то по наказу Марка и из уважения к трудам хозяйки, в постель заползли одетыми, не сняв ни свитеров, ни джинсов («Ночь любви отменяется, и меня не осудит даже изголодавшийся подводник», – бормотал Леон), обнялись покрепче и закопались под одеяло, как в сугроб, выбивая зубами мелкий зуммер.
Посреди ночи Леон не выдержал, вскочил, сорвал одну из портьер и накрылся с головой пыльным бархатом давно усопших королей…
* * *
…который утром оказался истинно королевским: винно-красным, ликующим, неумирающим, и курился мириадами веселых пылинок, облегая силуэт спящей на боку Айи.
Плита солнечного света, косо вывалившись из высокого окна, лишенного ночью гардины, падала на обои цвета топленого молока или старой кости – местами они потемнели до умбры жженой, но сохранили грубую текстуру дорогих обоев позапрошлого века: все тот же рельеф «бурбонских лилий», благородная труха поблескивающей в утреннем солнце позолоты.
Сейчас комната выглядела светлой и просторной; всюду – на столбцах балдахина, карнизах и дверцах шкафа, на высокой спинке прокурорского кресла – весело лепетали резные дубовые листья, пересыпанные ядреными желудями.
Изголовье кровати, сработанное искусным резчиком, являло собой кавалькаду пышнотелых нимф, окру живших разнузданного сатира. Видимо, лет триста назад сей игривый барельеф служил хозяевам замка чем-то вроде возбуждающей картинки из «Плейбоя».
Вместо сорванной гардины голубело небо, усердно протертое вчерашней бурей, а откуда-то снизу (чудесное наваждение? ведь это не может быть записью?!) – поднимались «Дунайские волны» в живом исполнении симфонического оркестра – конечно, малый состав, но и того хватит, чтобы согнать ослика с его газона.
Откуда оркестр? Ну да, в прошлый раз Марк рассказывал о своем друге, дирижере местного городского коллектива: тот конфликтует с кем-то из администрации концертного зала, и потому по выходным дням Марк пускает оркестрантов репетировать в замке…
Музыка, несмотря на «волновую природу звука», не могла разбудить «принцессу на горошине», закутанную в портьеру, в одеяло, одетую в джинсы, майку и джемпер: слишком надежно упаковано это чуткое тело. Айя крепко спала: пунцовая щека, належенная за ночь, даже на взгляд излучала жар.