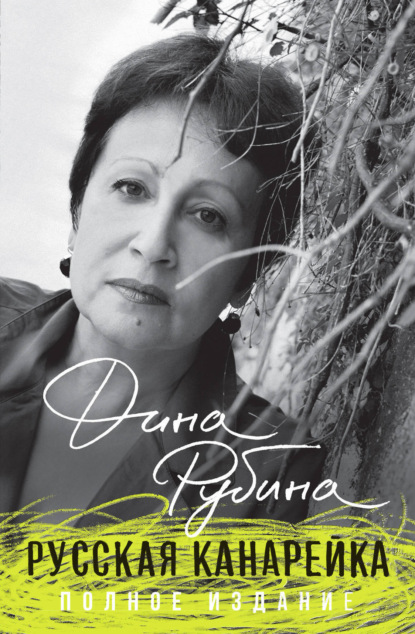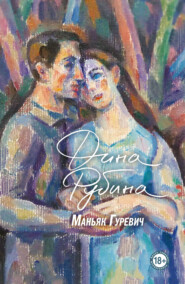По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская канарейка
Автор
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– За ней Разумович присмотрит! – нетерпеливо отмахнулась дочь, перебирая ногами, как стреноженный жеребенок. – Он ей и так во всем поддакивает, как раб запроданный.
И вдруг воспрянула, вдохновленная какими-то своими мыслями или планами:
– Серьезно, пап! Давай скроемся. – Вдруг подалась к отцу, крепко обняла его, прижалась. – Бежать! – пробормотала заговорщицки. – Бежать от нее, папа!
– Прекрати! – крикнул он, снимая со своей шеи руки дочери. – Как ты можешь! Неужели не понимаешь, что… ты меня ужасно этим огорчаешь, ужасно! Ты что, совсем не привязана к… дому, к нам с бабушкой?!. Кроме того, существует жизнь: моя работа, твоя школа… мои птицы… Да нет! – и сам на себя осердясь, что позволил втянуть себя, и даже серьезно втянуть, в эти дикие рассуждения, воскликнул: – Бред и чепуха! Чтоб я больше никогда не слышал.
Но глухой и прерывистый, как дыхание беглеца, страх, задавленный, еще детский, связанный с той тетенькой с огромными безумными глазами, что бежала за ним по другой стороне улицы, жалко и неистово натыкаясь на прохожих, – этот страх нет-нет и сжимал его сердце. Он видел, как ускользает дочь – как отдаляется ее доверчивая душа, отвердевает характер; понимал, что она не готова ни на йоту поступиться тем, что считает для себя важным. Чувствовал, насколько она решительнее, смелее, прямее да и попросту сильнее его. Разве это хорошо, смятенно думал он, для девушки?
Ее прямота казалась чрезмерной. Опасной! Даже губительной.
* * *
Ранней осенью в десятом классе Айя пропала на два дня, причем без всякой причины, вроде очередной ссоры с бабушкой; исчезла внезапно, догадавшись, слава богу, попросить одноклассницу позвонить и передать отцу, что «вернется, когда ее дом потянет». Полумертвый Илья полночи бегал по городу, а вторую половину просидел – в плаще, в туфлях, с шарфом на шее, чтобы «в случае чего быть готовым» (к чему?), – у постели угасающей бабушки, мягко отвечая на ее отрывистые вопросы:
– Ты позвонил в милицию?! Надо объявить розыск, слушай меня, я знаю, что говорю! Ты еще пожалеешь! – и так далее, успокаивая и держась лишь на одном этом звонке одноклассницы, лелея надежду, что «дом потянет» дочь уже утром.
Однако вернулась она лишь через день, устало-увлеченная, с несколькими исщелканными пленками, кажется, искренне не понимая – а что такого ужасного в ее очень нужной отлучке? Она ж предупредила, что все будет хорошо, и вот, все хорошо – она дома!
И глядела с недоумением, улыбаясь впечатлениям от поездки, с каким-то вдохновенным жаром подробно рассказывая, как села в электричку наобум, нарочно не спрашивая направления, и ехала долго – «куда-то вдаль, короче»; как слезла «ты не поверишь – черт-те где!» и просто пошла по полустанку, снимая все подряд («Папа, ты не представляешь, какие кадры словила! Вот погоди, завтра проявлю…»); как попросилась на ночлег к официантке вокзального буфета («Милая такая тетка, две пленки на нее ушло – такие глаза бесшабашно-ласковые, а нос – как с другого лица: грозный, топориком. И щи у нее мировецкие – пап, почему мы никогда щи не готовим?»)…
И отец в горьком отчаянии не мог объяснить ей, в чем, собственно, ее вина, и – «Почему, ну почему “люди так не поступают”? Какие люди? И где пропечатано, как можно поступать, а как нельзя?» – и главное, в чем опасность такого бродяжничества по полям и по горам беззащитной юной девушки с дорогущей камерой на шее.
Впоследствии она научилась в незнакомых местах доставать камеру не в первую же секунду, а хотя бы оглянувшись по сторонам. Но пришло это гораздо позже, после кражи в Риме, ночного ограбления в сумрачной, с красноватыми бликами факельных шествий, Авиле, но главное – после страшного нападения в Рио, на темной и вонючей улочке фавелы, где Айю, сброшенную в сточную канаву, подобрала Анна-Луиза, в свои девятнадцать лет уже вся исколотая и изможденная, и где Айя все-таки выжила, провалявшись месяц в местном госпитале «Санмаритано» с тяжелым сотрясением мозга, переломами ребер и ножевым ранением в спину.
…Илья смотрел в милое, еще такое полудетское – а для него всегда полудетское – лицо Айи, отлично понимая, что она сознательно и даже наступательно расширяет границы своей свободы, великую битву за эту свободу ведет.
Глядел, сумрачно завидуя, страдая и втайне восхищаясь дочерью.
* * *
Слуховой аппарат они все же заказали, навестив для этого уже старенького Рачковского, который из больницы давно ушел, но все еще принимал пациентов частным образом у себя дома. Он-то решение одобрил (сам уже давно ходил со слуховым аппаратом).
– Ну вот, – сказал удовлетворенно. – Теперь ты услышишь многие звуки, которые были тебе не по карману. По большому счету, эта штука просто усилит всю страшную тарабарщину, которая нас окружает. Твоему мозгу, который шестнадцать лет ничего подобного не знал, предстоит адова работа: разобрать и разложить по полочкам звучащий мир. Главное, выделить из всего этого шума самое нужное: человеческую речь…
Они молча возвращались от Рачковского, и опять Илья боялся – видно, он обречен был всю жизнь чего-нибудь да бояться – этой новости в их жизни. Шел, держа дочь за руку, что-то мягко и убедительно говорил о масле, которым каши не испортишь…
Оказалось, еще как испортишь! Впервые надев аппарат, она просто пришла в ужас. Изумленное, ошарашенное, искаженное мукой лицо; необъезженная лошадка, на которую впервые накинули уздечку. Вынула аппарат, потрясла головой, словно пчел из ушей вытряхивала, и сказала:
– Боже, в каком вы все живете грохоте, папа!
Потом начались мигрени. Она терпела, шутила, что ее мозг, как компьютер, перерабатывает ту невнятную трескотню, которую она слышит вместо речи, и выдает все варианты сложения звуков в слова, пока не выберет подходящий.
Потом стала отлынивать от этой тяготы. В конце концов аппарат был сослан в коробочку в ванной, откуда извлекался крайне редко, время от времени – если присутствие на очередном многолюдном сборище, вроде открытия выставки, невозможно было отменить.
* * *
Впоследствии, раздумывая над переменой в их жизни, Илья грешил на несчастные апортовые сады, поглотившие его дочь так надолго и, как считал он, до известной степени безвозвратно. Но растущий ком отчуждения, поистине снежный, собирался из множества самых разных событий.
Вот еще что выпало на этот мучительный период: история с летящим яблоком, брошенным с грузовика.
…Айе исполнилось лет пятнадцать, когда с подругой Милкой она гуляла по проспекту Аль-Фараби, объездной кольцевой дороге неподалеку от дома.
Их обогнал грузовик – обычный армейский грузовик с брезентовым верхом, в котором сидели четверо солдат на ящиках с апортом. Обогнав девочек, солдатики что-то приветливо прокричали, а один, высунувшись из-под навеса, перегнулся через борт и с силой кинул им огромное яблоко.
Этот роскошный, твердый, увесистый плод, обретя в полете дополнительную силу скорости, как маленький снаряд прилетел Айе прямо в левую грудь, нежно припухшую за последний год. От силы удара и от страшной боли, пронзившей левую половину тела, девочка упала и долго молча корчилась на асфальте, прижимая обе ладони к левой груди, будто клялась кому-то в вечной любви, а вокруг нее на коленках ползала перепуганная, плачущая от жалости Милка.
В последующие две недели Айя с отцом, уверенным, что у дочери сломано ребро, перебывали у нескольких врачей и дважды делали снимок. Ребра оказались целы, а мнения специалистов разделились, от «все пройдет» до мрачноватых прогнозов чуть ли не прогрессирующего паралича.
Тогда разъяренный Илья прекратил эти визиты.
Чудовищный разлапый краб синяка месяца полтора не сходил с кожи, очень медленно выцветая перламутровыми тонами какой-то канареечной окраски, пока, наконец, не сошел вовсе. Но грудь…
Левая грудь потом всегда отставала от правой, всегда чуть запаздывала, доставляя этим Айе ужасные мучения и сомнения в своей женской полноценности.
Впрочем, никто из ее мужчин никогда не замечал разницы. Никто, кроме…
…кроме одного нашего общего знакомого, обреченного на невероятную наблюдательность вовсе не интимного, а скорее профессионального свойства…
– А эти милые разлученные грудки, – спросил он, поднявшись и набрасывая рубашку, чтобы выйти на палубу. – Они у тебя росли наперегонки?
И потрясенная его приметливостью, она села, рывком натянув на грудь простыню, расплакалась и вдруг одним духом рассказала историю о прилетевшем яблоке, хотя никогда никому об этом не говорила.
Он не стал отирать ей слезы, лишь медленно стянул простыню, полюбовался еще, склоняя голову так и сяк.
Восхищенным шепотком пробормотал:
– Амазонка!
Опять не позволил натянуть простыню, сдернул ее совсем и с небрежной уверенностью заметил:
– Они сравняются… Когда наполнятся молоком.
7
И вот тут, будто не хватало других забот и сложностей, объявился Фридрих.
Сначала позвонила Роза, вечный провозвестник ненужной маеты.
В последние годы она приутихла, очень располнела, стала гораздо мягче – и к строптивой племяннице, и к ее бирюку-отцу. Вышла на пенсию и нянчила двух внучат-близнецов, которых ей подсудобил старший сын, отослав к матери свою жену с детьми – сначала «на лето», после оказалось – на неопределенный срок, «пока подрастут».
Обычно, попав на Илью, Роза требовала на ковер Айю (та давно уже избегала теткиных выволочек), и – мучительно-комическая ситуация: Илья должен был служить заочным толмачом между двумя этими непростыми особами, в паузах вытаращивая глаза, высовывая язык, как загнанный пес, изнывая от желания бросить трубку и пойти по своим делам. Дочь стояла рядом, молча корчась от смеха. При известном усилии она могла приспособиться к колебанию мембраны и услышать тетку сама, но это обстоятельство они дружно держали в секрете: Роза была очень многословна, говорила утомительно высоким голосом и вообще «несла страшную ахинею».
На сей раз она не потребовала к телефону девочку, а сказала Илье:
– Слушай… Такое дело тут. Родственничек нагрянул.
– И что же? – стараясь не раздражаться, спросил он, хотя раздражала его Роза точно так же, как и семнадцать лет назад.
И вдруг воспрянула, вдохновленная какими-то своими мыслями или планами:
– Серьезно, пап! Давай скроемся. – Вдруг подалась к отцу, крепко обняла его, прижалась. – Бежать! – пробормотала заговорщицки. – Бежать от нее, папа!
– Прекрати! – крикнул он, снимая со своей шеи руки дочери. – Как ты можешь! Неужели не понимаешь, что… ты меня ужасно этим огорчаешь, ужасно! Ты что, совсем не привязана к… дому, к нам с бабушкой?!. Кроме того, существует жизнь: моя работа, твоя школа… мои птицы… Да нет! – и сам на себя осердясь, что позволил втянуть себя, и даже серьезно втянуть, в эти дикие рассуждения, воскликнул: – Бред и чепуха! Чтоб я больше никогда не слышал.
Но глухой и прерывистый, как дыхание беглеца, страх, задавленный, еще детский, связанный с той тетенькой с огромными безумными глазами, что бежала за ним по другой стороне улицы, жалко и неистово натыкаясь на прохожих, – этот страх нет-нет и сжимал его сердце. Он видел, как ускользает дочь – как отдаляется ее доверчивая душа, отвердевает характер; понимал, что она не готова ни на йоту поступиться тем, что считает для себя важным. Чувствовал, насколько она решительнее, смелее, прямее да и попросту сильнее его. Разве это хорошо, смятенно думал он, для девушки?
Ее прямота казалась чрезмерной. Опасной! Даже губительной.
* * *
Ранней осенью в десятом классе Айя пропала на два дня, причем без всякой причины, вроде очередной ссоры с бабушкой; исчезла внезапно, догадавшись, слава богу, попросить одноклассницу позвонить и передать отцу, что «вернется, когда ее дом потянет». Полумертвый Илья полночи бегал по городу, а вторую половину просидел – в плаще, в туфлях, с шарфом на шее, чтобы «в случае чего быть готовым» (к чему?), – у постели угасающей бабушки, мягко отвечая на ее отрывистые вопросы:
– Ты позвонил в милицию?! Надо объявить розыск, слушай меня, я знаю, что говорю! Ты еще пожалеешь! – и так далее, успокаивая и держась лишь на одном этом звонке одноклассницы, лелея надежду, что «дом потянет» дочь уже утром.
Однако вернулась она лишь через день, устало-увлеченная, с несколькими исщелканными пленками, кажется, искренне не понимая – а что такого ужасного в ее очень нужной отлучке? Она ж предупредила, что все будет хорошо, и вот, все хорошо – она дома!
И глядела с недоумением, улыбаясь впечатлениям от поездки, с каким-то вдохновенным жаром подробно рассказывая, как села в электричку наобум, нарочно не спрашивая направления, и ехала долго – «куда-то вдаль, короче»; как слезла «ты не поверишь – черт-те где!» и просто пошла по полустанку, снимая все подряд («Папа, ты не представляешь, какие кадры словила! Вот погоди, завтра проявлю…»); как попросилась на ночлег к официантке вокзального буфета («Милая такая тетка, две пленки на нее ушло – такие глаза бесшабашно-ласковые, а нос – как с другого лица: грозный, топориком. И щи у нее мировецкие – пап, почему мы никогда щи не готовим?»)…
И отец в горьком отчаянии не мог объяснить ей, в чем, собственно, ее вина, и – «Почему, ну почему “люди так не поступают”? Какие люди? И где пропечатано, как можно поступать, а как нельзя?» – и главное, в чем опасность такого бродяжничества по полям и по горам беззащитной юной девушки с дорогущей камерой на шее.
Впоследствии она научилась в незнакомых местах доставать камеру не в первую же секунду, а хотя бы оглянувшись по сторонам. Но пришло это гораздо позже, после кражи в Риме, ночного ограбления в сумрачной, с красноватыми бликами факельных шествий, Авиле, но главное – после страшного нападения в Рио, на темной и вонючей улочке фавелы, где Айю, сброшенную в сточную канаву, подобрала Анна-Луиза, в свои девятнадцать лет уже вся исколотая и изможденная, и где Айя все-таки выжила, провалявшись месяц в местном госпитале «Санмаритано» с тяжелым сотрясением мозга, переломами ребер и ножевым ранением в спину.
…Илья смотрел в милое, еще такое полудетское – а для него всегда полудетское – лицо Айи, отлично понимая, что она сознательно и даже наступательно расширяет границы своей свободы, великую битву за эту свободу ведет.
Глядел, сумрачно завидуя, страдая и втайне восхищаясь дочерью.
* * *
Слуховой аппарат они все же заказали, навестив для этого уже старенького Рачковского, который из больницы давно ушел, но все еще принимал пациентов частным образом у себя дома. Он-то решение одобрил (сам уже давно ходил со слуховым аппаратом).
– Ну вот, – сказал удовлетворенно. – Теперь ты услышишь многие звуки, которые были тебе не по карману. По большому счету, эта штука просто усилит всю страшную тарабарщину, которая нас окружает. Твоему мозгу, который шестнадцать лет ничего подобного не знал, предстоит адова работа: разобрать и разложить по полочкам звучащий мир. Главное, выделить из всего этого шума самое нужное: человеческую речь…
Они молча возвращались от Рачковского, и опять Илья боялся – видно, он обречен был всю жизнь чего-нибудь да бояться – этой новости в их жизни. Шел, держа дочь за руку, что-то мягко и убедительно говорил о масле, которым каши не испортишь…
Оказалось, еще как испортишь! Впервые надев аппарат, она просто пришла в ужас. Изумленное, ошарашенное, искаженное мукой лицо; необъезженная лошадка, на которую впервые накинули уздечку. Вынула аппарат, потрясла головой, словно пчел из ушей вытряхивала, и сказала:
– Боже, в каком вы все живете грохоте, папа!
Потом начались мигрени. Она терпела, шутила, что ее мозг, как компьютер, перерабатывает ту невнятную трескотню, которую она слышит вместо речи, и выдает все варианты сложения звуков в слова, пока не выберет подходящий.
Потом стала отлынивать от этой тяготы. В конце концов аппарат был сослан в коробочку в ванной, откуда извлекался крайне редко, время от времени – если присутствие на очередном многолюдном сборище, вроде открытия выставки, невозможно было отменить.
* * *
Впоследствии, раздумывая над переменой в их жизни, Илья грешил на несчастные апортовые сады, поглотившие его дочь так надолго и, как считал он, до известной степени безвозвратно. Но растущий ком отчуждения, поистине снежный, собирался из множества самых разных событий.
Вот еще что выпало на этот мучительный период: история с летящим яблоком, брошенным с грузовика.
…Айе исполнилось лет пятнадцать, когда с подругой Милкой она гуляла по проспекту Аль-Фараби, объездной кольцевой дороге неподалеку от дома.
Их обогнал грузовик – обычный армейский грузовик с брезентовым верхом, в котором сидели четверо солдат на ящиках с апортом. Обогнав девочек, солдатики что-то приветливо прокричали, а один, высунувшись из-под навеса, перегнулся через борт и с силой кинул им огромное яблоко.
Этот роскошный, твердый, увесистый плод, обретя в полете дополнительную силу скорости, как маленький снаряд прилетел Айе прямо в левую грудь, нежно припухшую за последний год. От силы удара и от страшной боли, пронзившей левую половину тела, девочка упала и долго молча корчилась на асфальте, прижимая обе ладони к левой груди, будто клялась кому-то в вечной любви, а вокруг нее на коленках ползала перепуганная, плачущая от жалости Милка.
В последующие две недели Айя с отцом, уверенным, что у дочери сломано ребро, перебывали у нескольких врачей и дважды делали снимок. Ребра оказались целы, а мнения специалистов разделились, от «все пройдет» до мрачноватых прогнозов чуть ли не прогрессирующего паралича.
Тогда разъяренный Илья прекратил эти визиты.
Чудовищный разлапый краб синяка месяца полтора не сходил с кожи, очень медленно выцветая перламутровыми тонами какой-то канареечной окраски, пока, наконец, не сошел вовсе. Но грудь…
Левая грудь потом всегда отставала от правой, всегда чуть запаздывала, доставляя этим Айе ужасные мучения и сомнения в своей женской полноценности.
Впрочем, никто из ее мужчин никогда не замечал разницы. Никто, кроме…
…кроме одного нашего общего знакомого, обреченного на невероятную наблюдательность вовсе не интимного, а скорее профессионального свойства…
– А эти милые разлученные грудки, – спросил он, поднявшись и набрасывая рубашку, чтобы выйти на палубу. – Они у тебя росли наперегонки?
И потрясенная его приметливостью, она села, рывком натянув на грудь простыню, расплакалась и вдруг одним духом рассказала историю о прилетевшем яблоке, хотя никогда никому об этом не говорила.
Он не стал отирать ей слезы, лишь медленно стянул простыню, полюбовался еще, склоняя голову так и сяк.
Восхищенным шепотком пробормотал:
– Амазонка!
Опять не позволил натянуть простыню, сдернул ее совсем и с небрежной уверенностью заметил:
– Они сравняются… Когда наполнятся молоком.
7
И вот тут, будто не хватало других забот и сложностей, объявился Фридрих.
Сначала позвонила Роза, вечный провозвестник ненужной маеты.
В последние годы она приутихла, очень располнела, стала гораздо мягче – и к строптивой племяннице, и к ее бирюку-отцу. Вышла на пенсию и нянчила двух внучат-близнецов, которых ей подсудобил старший сын, отослав к матери свою жену с детьми – сначала «на лето», после оказалось – на неопределенный срок, «пока подрастут».
Обычно, попав на Илью, Роза требовала на ковер Айю (та давно уже избегала теткиных выволочек), и – мучительно-комическая ситуация: Илья должен был служить заочным толмачом между двумя этими непростыми особами, в паузах вытаращивая глаза, высовывая язык, как загнанный пес, изнывая от желания бросить трубку и пойти по своим делам. Дочь стояла рядом, молча корчась от смеха. При известном усилии она могла приспособиться к колебанию мембраны и услышать тетку сама, но это обстоятельство они дружно держали в секрете: Роза была очень многословна, говорила утомительно высоким голосом и вообще «несла страшную ахинею».
На сей раз она не потребовала к телефону девочку, а сказала Илье:
– Слушай… Такое дело тут. Родственничек нагрянул.
– И что же? – стараясь не раздражаться, спросил он, хотя раздражала его Роза точно так же, как и семнадцать лет назад.