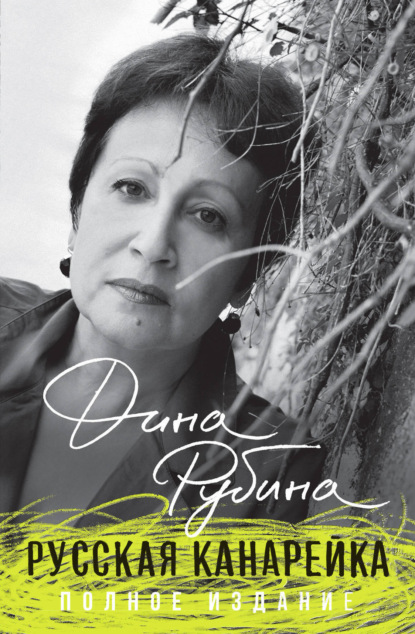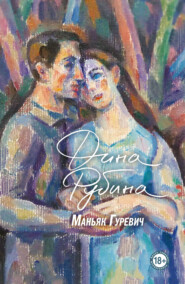По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская канарейка
Автор
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В самом деле: почему он должен вникать во все визиты ее многочисленной сельской родни?
– Представляешь, это брат, который из Германии.
То есть из Лондона, он сейчас в Лондоне живет.
Она всегда ухитрялась звонить в разгар какого-нибудь срочного дела. Илья и сейчас с огромным удовольствием бросил бы трубку, оборвав невнятицу этой бестолковой бабы.
– Роза! – мягко проговорил он. – Пожалуйста, именно сейчас я немного занят. Скажи сразу и коротко, что ты хочешь, а то я как-то…
– Господи! – воскликнула она. – Ну что ты такой бестолковый! Я говорю о брате, которого мы в глаза не видали. Военный роман моего отца, ну! Помнишь, дед слал открытки одной немке?
Ах вот оно что… Военно-полевой роман Ванильного Деда…
Он вдруг вспомнил кудрявую вязь на обороте старой открытки и давно забытую фотографию молодой блондинки с белобрысым, но скуласто-раскосым мальчиком. Ага-а. Ария заморского гостя. Бедная замордованная Роза: тут и внучки? тебе, и неблагодарная невестка, а теперь и новоявленного брата принимай-обхаживай…
Да нет, торопливо объясняла Роза, никакого беспокойства этот парень не делает. Он, между прочим, большая шишка в каком-то международном бизнесе. Что-то там с персидскими коврами. Сейчас их фирма выходит на Казахстан, и, короче, он вдруг вспомнил, что у него тут родня. Понимаешь, его мать, Гертруда, давно умерла, он тоже не мальчик. Видимо, потянуло к неведомой сестре и племянникам. Такие подарки привез, я тебе скажу… Представляешь, открывается дверь, и навстречу мне плывет ковер-самолет… Ну, в смысле… Ну, ты понимаешь… Красота неописуемая! Значит, Айе он приходится… кем – двоюродным дедом, да?
– Да-да, – нетерпеливо пробормотал Илья, подгоняя ее к сути звонка и заодно к его завершению, как пастушья собака по вечернему времени гонит глупую овцу в загон. – Так что он хочет, этот коверный дед?
– Ничего! Просто познакомиться с родней, пока все мы не передохли. Очень симпатичный парень, лет где-то за пятьдесят, но моложавый, подтянутый – приятно посмотреть. Знаешь, так странно: он похож на папину фотографию в молодости, еще до ранения. Папа ведь красавцем был. Я аж прослезилась. А в этом еще и пропасть западного шарма, и такая… немецкая основательность. И умен, по глазам видно!
«Умен, – подумал Илья чуть не с отвращением. – У тебя, как послушать, все умники и все с бездной западного шарма».
А она уже частила:
– Время, знаешь, идет, мы не вечные, все надо простить – все грехи наших родителей, и всем обняться! Вот я и подумала: соберемся у меня в воскресенье, а? Часиков в двенадцать. Он здесь всего ничего: неделю.
Этого еще не хватало, подумал Илья, – часиков в двенадцать! Потерять чуть не все воскресенье. Выдержать бесконечное Розино застолье – нужно обладать железными нервами и стальным желудком. И каким образом с гостем будет общаться Айя? Он наверняка едва лепечет по-русски и наверняка абсолютно ей не нужен – последний довод он привел в надежде увильнуть от поклонения немецкому ковру-самолету.
– Нет, что ты! – воскликнула Роза. – Ты удивишься: он по-русски так и шпарит, прямо поразительно! И практически без акцента. Он закончил МГУ, что-то там научное и всегда, говорит, всегда испытывал интерес к своим «русским корням». Русским! Ну, правильно, для них тогда все наши солдаты были русскими. Слушай, долблю тебе полчаса: отличный парень, душа-человек. Познакомься, не повредит. Может, и пригодится…
– Да чем он мне пригодится! – гаркнул Илья с уже нескрываемой досадой, вполне, впрочем, обреченной, ибо знал: и потащится, и будет сидеть, и потеряет, как обычно, целое воскресенье, да еще нажрется жирной, тяжелой для его печени вкуснотищей.
– Так, значит, договорились, детки? – не слушая, завершила Роза и, как это частенько с ней случалось в конце разговора, добавила на глупой старчески-слезливой ноте: – Все же родная кровь не водица…
…То, что родная кровь не водица, новый родственник (здоровяк-плейбой, широким лицом и седой шевелюрой походивший, скорее, на преуспевавшего фермера из-под Хьюстона) продемонстрировал, едва увидел Айю, – простер обе руки, ахнул и головой покачал:
– С ума сойти, как похожа!
Далее, к изумлению Ильи, который искренне считал, что более всего дочь похожа именно на него, Фридрих заявил, что девочка – вылитый Гюнтер в юности.
Кто такой Гюнтер, ради бога?
– Мой сын, – охотно ответил гость. – Просто одно лицо, с поправкой на возраст и пол, конечно.
Почему же, сладко воскликнула Роза, почему ты не прихватил его с собой?! Расскажи – чем он занят, твой мальчик? где он сейчас?
На это Фридрих спокойно отозвался: в тюрьме. И будет занят там еще двенадцать лет, так как убил человека в вооруженном ограблении.
Над столом воцарилась тишина, которую нарушали драчкой за новый, подаренный гостем электронный автомобиль пыхтящие Розины внуки.
А он и вправду забавный мужик, подумал Илья.
Видимо, сходство девочки с его беспутным сыном произвело на Фридриха такое впечатление, что из оставшихся трех дней в Алма-Ате один он чуть не весь провел с внучатой племянницей: они ходили на выставку фотографий, где висели два ее «Ветра в апортовых садах», и потом до вечера гуляли по городу. А когда стемнело, в кабине фуникулера, всплывавшей над острыми пиками елей, поднялись на Кок-Тюбе, где с площадки открывался вид, как отметил гость, «из первейших в мире»: до кромки горизонта разлилось и шевелилось море огней со сверкающим утесом гостиницы «Казахстан», увенчанным рубиновой короной, с золотой змеей проспекта Аль-Фараби, с едва видимой, но ощутимо доминирующей над долиной громадой черных гор. И довершая картину, над этим праздничным кипением пульсировали красные огоньки пролетавших самолетов.
Там же случилась встреча Фридриха с одним человеком («моим давним московским другом»), которая показалась наблюдательной девочке странноватой. Они встретились так бурно, словно не виделись лет двадцать, но, переведя взгляд на Айю, тот вдруг кивнул и спросил:
– Племянница, которая фотографирует?
Откуда же он знал?
Он предложил Айе называть его «дядя Андрей», потому что, оказывается, в молодости знал и маму, и папу.
Но разговор этот завел не сразу.
Сначала они с Фридрихом долго обсуждали какую-то скучную абракадабру, какие-то контейнеры, какие-то химические названия. Айя перестала всматриваться в движение губ, отвернулась и стала любоваться сверкающим морем драгоценных горячих огней внизу, над которым холодно и надменно сияла голубая горная луна. Оживленно обернувшись, чтобы сказать Фридриху, что… в губах «дяди Андрея» она увидела вскользь брошенное:
– А девочка – красотка…
– То-то и оно, – отозвался Фридрих.
– Бедняжка…
И Фридрих, на полуулыбке:
– А ты полегче: мы фантастически понимаем по губам…
Вот тогда «дядя Андрей» сообщил Айе (преувеличенно, как дурак, выпячивая и кривя речь в толстых губах), что когда-то знал ее родителей.
– Такая веселая компания собралась, – сказал он. – Твоя мама была прелестной женщиной. Прелестной!
И что-то такое было в этих его неприличных губах, что Айя молча отвернулась.
А последний перед отъездом вечер Фридрих вообще просидел с девочкой в бывшем сарае во дворе, задумчиво разглядывая фотографии, выхватывая из косого кургана на длинном «верстаке» то один снимок, то другой, возвращаясь к уже рассмотренным портретам или натюрмортам, выставляя их перед собой в ряд, чертыхаясь восторженным шепотом и хватаясь за щеку, точно у него болел зуб, – и надо отдать ему должное, был совершенно искренен: такое восхищение подделать невозможно (так впоследствии растерянно объяснял себе Илья) – да и к чему?
Потом немецкий гость долго сидел у них за чаем («О, насчет чая, знаете, я совершенно русский, вернее, совершенный англичанин, то есть казах казахом: смело наливайте молока по самый край!») и рассказывал массу поразительных историй из области искусства ковроткачества; например, о знаменитом «Весеннем ковре» персидского царя Хосрова Первого, сплетенном в шестом веке в честь победы персов над римлянами.
– Представьте гигантских размеров ковровое полотно: 122 метра в длину, 30 – в ширину и весит несколько тонн! Но главное – узор: земля, вода, цветы и деревья – все выткано из золота, драгоценных камней и самоцветов. Говорят, когда ковер расстилали, по залу проносилось весеннее благоухание садов пленительной Персии!
Он словно бы и не замечал ревнивого раздражения Ильи, который ничего не мог с собой поделать: от этого златоуста с его учтивой благожелательностью, ненатужным юмором и великолепным откуда-то русским языком исходило не весеннее благоухание садов, а необъяснимая опасность, какие-то смутные будущие несчастья, и лучше бы он поскорее убрался в свой Берлин, Лондон или где там его нора, несмотря на его восхищение фотографиями, канарейками и антикварным бабушкиным бюро (немедленно были названы стиль, эпоха и век изготовления и попутно даны два отменных совета по очистке доски).
– Кстати, вы, конечно, знаете, Илья, что самыми заядлыми покупателями русской канарейки были именно персы, иранские шахи, да-да… Но, что весьма огорчительно, на Востоке был повсеместно распространен бессердечный обычай: бедной птахе удаляли глаза кусочком раскаленной проволоки – чтобы слаще пела. Да-да, ужасно… что поделать: восточный обиход.
Зато бабушке Фридрих очень понравился. Она уже редко выезжала в кресле к столу, с трудом держала чашку в дрожащей руке. А на сей раз, это ж надо, потребовала парадного выезда. Илья облачил ее в нарядную шелковую блузку (брошь на месте и благородно гармонирует с желтоватой сединой жидких косиц, все так же ровно выложенных надо лбом), набросил на плечи шаль и вывез к гостю; знакомство состоялось. Старуха была чрезвычайно оживлена, и точно бес ее обуял – расспрашивала и расспрашивала гостя, задавая все новые вопросы, вызывая на новые – отрицать невозможно – остроумные, замечательно законченные, точно отрепетированные истории, случаи и анекдоты.
Илья с самого начала приметил быстрый острый блеск в глазах дочери, не сводившей взгляда с лица Фридриха: она жадно впитывала все эти звучные книжные названия, все эти Портобелло-роуд, Кенсингтон, Вест-Энд и Сити, Тегеран и Исфахан… Он не мог ошибиться: этот лихорадочный горячий блеск всегда предшествовал ее вылетам из клетки.
Ах, новоявленный родственничек, сирена заморская… Он, конечно, просто не понимал, с каким играет огнем, а объяснить ему что-либо в присутствии девочки было невозможно. Но бабушка-то, бабушка! Маразм! – в бешенстве думал Илья. Уж она-то, ей-богу, должна понимать, что творит.
– Представляешь, это брат, который из Германии.
То есть из Лондона, он сейчас в Лондоне живет.
Она всегда ухитрялась звонить в разгар какого-нибудь срочного дела. Илья и сейчас с огромным удовольствием бросил бы трубку, оборвав невнятицу этой бестолковой бабы.
– Роза! – мягко проговорил он. – Пожалуйста, именно сейчас я немного занят. Скажи сразу и коротко, что ты хочешь, а то я как-то…
– Господи! – воскликнула она. – Ну что ты такой бестолковый! Я говорю о брате, которого мы в глаза не видали. Военный роман моего отца, ну! Помнишь, дед слал открытки одной немке?
Ах вот оно что… Военно-полевой роман Ванильного Деда…
Он вдруг вспомнил кудрявую вязь на обороте старой открытки и давно забытую фотографию молодой блондинки с белобрысым, но скуласто-раскосым мальчиком. Ага-а. Ария заморского гостя. Бедная замордованная Роза: тут и внучки? тебе, и неблагодарная невестка, а теперь и новоявленного брата принимай-обхаживай…
Да нет, торопливо объясняла Роза, никакого беспокойства этот парень не делает. Он, между прочим, большая шишка в каком-то международном бизнесе. Что-то там с персидскими коврами. Сейчас их фирма выходит на Казахстан, и, короче, он вдруг вспомнил, что у него тут родня. Понимаешь, его мать, Гертруда, давно умерла, он тоже не мальчик. Видимо, потянуло к неведомой сестре и племянникам. Такие подарки привез, я тебе скажу… Представляешь, открывается дверь, и навстречу мне плывет ковер-самолет… Ну, в смысле… Ну, ты понимаешь… Красота неописуемая! Значит, Айе он приходится… кем – двоюродным дедом, да?
– Да-да, – нетерпеливо пробормотал Илья, подгоняя ее к сути звонка и заодно к его завершению, как пастушья собака по вечернему времени гонит глупую овцу в загон. – Так что он хочет, этот коверный дед?
– Ничего! Просто познакомиться с родней, пока все мы не передохли. Очень симпатичный парень, лет где-то за пятьдесят, но моложавый, подтянутый – приятно посмотреть. Знаешь, так странно: он похож на папину фотографию в молодости, еще до ранения. Папа ведь красавцем был. Я аж прослезилась. А в этом еще и пропасть западного шарма, и такая… немецкая основательность. И умен, по глазам видно!
«Умен, – подумал Илья чуть не с отвращением. – У тебя, как послушать, все умники и все с бездной западного шарма».
А она уже частила:
– Время, знаешь, идет, мы не вечные, все надо простить – все грехи наших родителей, и всем обняться! Вот я и подумала: соберемся у меня в воскресенье, а? Часиков в двенадцать. Он здесь всего ничего: неделю.
Этого еще не хватало, подумал Илья, – часиков в двенадцать! Потерять чуть не все воскресенье. Выдержать бесконечное Розино застолье – нужно обладать железными нервами и стальным желудком. И каким образом с гостем будет общаться Айя? Он наверняка едва лепечет по-русски и наверняка абсолютно ей не нужен – последний довод он привел в надежде увильнуть от поклонения немецкому ковру-самолету.
– Нет, что ты! – воскликнула Роза. – Ты удивишься: он по-русски так и шпарит, прямо поразительно! И практически без акцента. Он закончил МГУ, что-то там научное и всегда, говорит, всегда испытывал интерес к своим «русским корням». Русским! Ну, правильно, для них тогда все наши солдаты были русскими. Слушай, долблю тебе полчаса: отличный парень, душа-человек. Познакомься, не повредит. Может, и пригодится…
– Да чем он мне пригодится! – гаркнул Илья с уже нескрываемой досадой, вполне, впрочем, обреченной, ибо знал: и потащится, и будет сидеть, и потеряет, как обычно, целое воскресенье, да еще нажрется жирной, тяжелой для его печени вкуснотищей.
– Так, значит, договорились, детки? – не слушая, завершила Роза и, как это частенько с ней случалось в конце разговора, добавила на глупой старчески-слезливой ноте: – Все же родная кровь не водица…
…То, что родная кровь не водица, новый родственник (здоровяк-плейбой, широким лицом и седой шевелюрой походивший, скорее, на преуспевавшего фермера из-под Хьюстона) продемонстрировал, едва увидел Айю, – простер обе руки, ахнул и головой покачал:
– С ума сойти, как похожа!
Далее, к изумлению Ильи, который искренне считал, что более всего дочь похожа именно на него, Фридрих заявил, что девочка – вылитый Гюнтер в юности.
Кто такой Гюнтер, ради бога?
– Мой сын, – охотно ответил гость. – Просто одно лицо, с поправкой на возраст и пол, конечно.
Почему же, сладко воскликнула Роза, почему ты не прихватил его с собой?! Расскажи – чем он занят, твой мальчик? где он сейчас?
На это Фридрих спокойно отозвался: в тюрьме. И будет занят там еще двенадцать лет, так как убил человека в вооруженном ограблении.
Над столом воцарилась тишина, которую нарушали драчкой за новый, подаренный гостем электронный автомобиль пыхтящие Розины внуки.
А он и вправду забавный мужик, подумал Илья.
Видимо, сходство девочки с его беспутным сыном произвело на Фридриха такое впечатление, что из оставшихся трех дней в Алма-Ате один он чуть не весь провел с внучатой племянницей: они ходили на выставку фотографий, где висели два ее «Ветра в апортовых садах», и потом до вечера гуляли по городу. А когда стемнело, в кабине фуникулера, всплывавшей над острыми пиками елей, поднялись на Кок-Тюбе, где с площадки открывался вид, как отметил гость, «из первейших в мире»: до кромки горизонта разлилось и шевелилось море огней со сверкающим утесом гостиницы «Казахстан», увенчанным рубиновой короной, с золотой змеей проспекта Аль-Фараби, с едва видимой, но ощутимо доминирующей над долиной громадой черных гор. И довершая картину, над этим праздничным кипением пульсировали красные огоньки пролетавших самолетов.
Там же случилась встреча Фридриха с одним человеком («моим давним московским другом»), которая показалась наблюдательной девочке странноватой. Они встретились так бурно, словно не виделись лет двадцать, но, переведя взгляд на Айю, тот вдруг кивнул и спросил:
– Племянница, которая фотографирует?
Откуда же он знал?
Он предложил Айе называть его «дядя Андрей», потому что, оказывается, в молодости знал и маму, и папу.
Но разговор этот завел не сразу.
Сначала они с Фридрихом долго обсуждали какую-то скучную абракадабру, какие-то контейнеры, какие-то химические названия. Айя перестала всматриваться в движение губ, отвернулась и стала любоваться сверкающим морем драгоценных горячих огней внизу, над которым холодно и надменно сияла голубая горная луна. Оживленно обернувшись, чтобы сказать Фридриху, что… в губах «дяди Андрея» она увидела вскользь брошенное:
– А девочка – красотка…
– То-то и оно, – отозвался Фридрих.
– Бедняжка…
И Фридрих, на полуулыбке:
– А ты полегче: мы фантастически понимаем по губам…
Вот тогда «дядя Андрей» сообщил Айе (преувеличенно, как дурак, выпячивая и кривя речь в толстых губах), что когда-то знал ее родителей.
– Такая веселая компания собралась, – сказал он. – Твоя мама была прелестной женщиной. Прелестной!
И что-то такое было в этих его неприличных губах, что Айя молча отвернулась.
А последний перед отъездом вечер Фридрих вообще просидел с девочкой в бывшем сарае во дворе, задумчиво разглядывая фотографии, выхватывая из косого кургана на длинном «верстаке» то один снимок, то другой, возвращаясь к уже рассмотренным портретам или натюрмортам, выставляя их перед собой в ряд, чертыхаясь восторженным шепотом и хватаясь за щеку, точно у него болел зуб, – и надо отдать ему должное, был совершенно искренен: такое восхищение подделать невозможно (так впоследствии растерянно объяснял себе Илья) – да и к чему?
Потом немецкий гость долго сидел у них за чаем («О, насчет чая, знаете, я совершенно русский, вернее, совершенный англичанин, то есть казах казахом: смело наливайте молока по самый край!») и рассказывал массу поразительных историй из области искусства ковроткачества; например, о знаменитом «Весеннем ковре» персидского царя Хосрова Первого, сплетенном в шестом веке в честь победы персов над римлянами.
– Представьте гигантских размеров ковровое полотно: 122 метра в длину, 30 – в ширину и весит несколько тонн! Но главное – узор: земля, вода, цветы и деревья – все выткано из золота, драгоценных камней и самоцветов. Говорят, когда ковер расстилали, по залу проносилось весеннее благоухание садов пленительной Персии!
Он словно бы и не замечал ревнивого раздражения Ильи, который ничего не мог с собой поделать: от этого златоуста с его учтивой благожелательностью, ненатужным юмором и великолепным откуда-то русским языком исходило не весеннее благоухание садов, а необъяснимая опасность, какие-то смутные будущие несчастья, и лучше бы он поскорее убрался в свой Берлин, Лондон или где там его нора, несмотря на его восхищение фотографиями, канарейками и антикварным бабушкиным бюро (немедленно были названы стиль, эпоха и век изготовления и попутно даны два отменных совета по очистке доски).
– Кстати, вы, конечно, знаете, Илья, что самыми заядлыми покупателями русской канарейки были именно персы, иранские шахи, да-да… Но, что весьма огорчительно, на Востоке был повсеместно распространен бессердечный обычай: бедной птахе удаляли глаза кусочком раскаленной проволоки – чтобы слаще пела. Да-да, ужасно… что поделать: восточный обиход.
Зато бабушке Фридрих очень понравился. Она уже редко выезжала в кресле к столу, с трудом держала чашку в дрожащей руке. А на сей раз, это ж надо, потребовала парадного выезда. Илья облачил ее в нарядную шелковую блузку (брошь на месте и благородно гармонирует с желтоватой сединой жидких косиц, все так же ровно выложенных надо лбом), набросил на плечи шаль и вывез к гостю; знакомство состоялось. Старуха была чрезвычайно оживлена, и точно бес ее обуял – расспрашивала и расспрашивала гостя, задавая все новые вопросы, вызывая на новые – отрицать невозможно – остроумные, замечательно законченные, точно отрепетированные истории, случаи и анекдоты.
Илья с самого начала приметил быстрый острый блеск в глазах дочери, не сводившей взгляда с лица Фридриха: она жадно впитывала все эти звучные книжные названия, все эти Портобелло-роуд, Кенсингтон, Вест-Энд и Сити, Тегеран и Исфахан… Он не мог ошибиться: этот лихорадочный горячий блеск всегда предшествовал ее вылетам из клетки.
Ах, новоявленный родственничек, сирена заморская… Он, конечно, просто не понимал, с каким играет огнем, а объяснить ему что-либо в присутствии девочки было невозможно. Но бабушка-то, бабушка! Маразм! – в бешенстве думал Илья. Уж она-то, ей-богу, должна понимать, что творит.