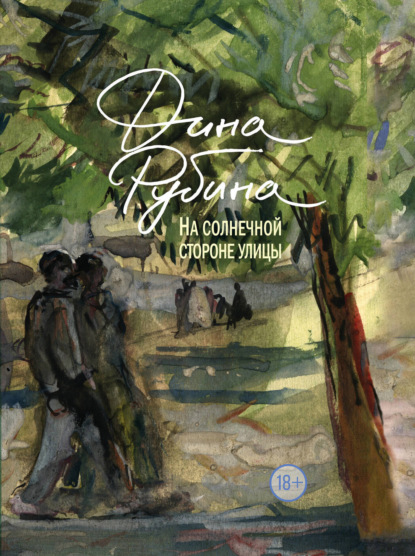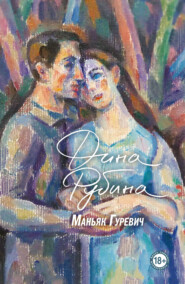По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На солнечной стороне улицы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А потом, Катенька, мы поедем на острова, на лодке кататься. Помнишь, как первого мая, до войны? Нам тогда еще двух лодок оказалось мало, тетя Наташа на берегу осталась… А Володька так перегнулся через борт – за твоим уплывшим шариком, – что мы чуть не перевернулись… помнишь? Я буду грести, а ты вот так сядешь на корме и руку опустишь в воду, а вода ласковая, теплая… Это обязательно будет, Катенька…
Хадича несколько раз поднималась на балхану, смотрела на девочку, качала головою и бормотала что-то по-узбекски. Под вечер, завернув в головной платок сапоги старшего сына, Хикмата, ушла и вернулась через час без сапог, осторожно держа обеими руками поллитровую банку кислого молока.
– Кизимкя, бир пиалушкя катык кушяй, – озабоченно приговаривала она, натряхивая в пиалу белую комковатую жижу.
– Оставьте ее… – угрюмо простонал Саша, – все равно вырвет…
И тут лицо тихой Хадичи изменилось: она тонко и гневно закричала что-то по-узбекски, даже замахнулась на Сашу худым коричневым кулачком, сморщенным и похожим на сливу-сухофрукт.
Осторожно подложив ладонь под легкую Катину голову, приподняла ее и поднесла к губам девочки пиалу. Катя потрогала губами прохладную кисловатую массу, похожую на жидкий студень из клея, а еще на довоенный кефир… послушно отхлебнула и потянулась – еще.
Хадича отняла пиалу, покачав головой: нельзя сразу. Весь вечер она просидела возле девочки, разрешая время от времени делать два-три глотка…
На другой день размочила в оставшемся молоке несколько кусочков лепешки и позволила Кате съесть тюрю.
Саша уже не плакал. Он бегал к колонке за водой, раздувал самовар, помогал у тандыра, подметал двор, и бог знает что еще готов был сделать для этой женщины, для ее четверых, тоже хронически голодных, смуглых, точно сушеных, ребятишек.
Двое старших сыновей Хадичи постигали правила русского языка в окопах Второго Украинского фронта, муж давно умер.
Дня через три Катя уже сидела во дворе на большой квадратной супе, свесив слабые тонкие ноги, опираясь спиною о подоткнутые Хадичой подушки, и глядела с тихим удивлением на крикливые игры ее черноглазых детей. Говор ей был непонятен, а игры – понятны все…
С того военного лета этот город, эти узбекские дворики с теплой утоптанной землею, эти сквозистые кроны чинар, погруженные в глубину неба, означали для нее больше, чем просто – жизнь; все это было жизнью подаренной.
* * *
«– …Это вы замечательно решили – писать роман о Ташкенте! Такой город не должен быть забыт… И, знаете, здорово придумано – собирать „голоса“. Каждый такой голос – а нас, бывших ташкентцев, по всему свету разбросано немало, – может вам отдельный роман наговорить, роман своей жизни. И я с удовольствием наговорю, что помню…
Я тут недавно набрел в Интернете на сайт под названием «Алайский»… и там перекличка наших земляков: «Кто учился в мужской средней школе им. Сталина, Хорезмская, 8, – откликнитесь!»… «Кто с Тезиковки, ребята, – отзовитесь!»… Какой-то местный парень берет заказы на фотографии. Ты называешь объект: главпочтамт, например… – помните каменных львов на его угловом, вечно заколоченном парадном? Говорили, что это единственные каменные львы в городе. У меня они ассоциируются с детством, потому что няня разрешала посидеть верхом то на одном, то на другом – они в разные стороны смотрели, словно торчали на шухере… Или, например, консерватория… или памятник в парке Тельмана… Так, значит, этот парень фотографирует за сущие копейки и присылает – все-таки память… Очень удобно! Вот живешь ты у себя в Солт-Лейк-Сити лет эдак тридцать, а снится тебе ночами Шейхантаур, сине-лазурный орнамент на мавзолее шейха Хавенди Тохура… кладбище, мечеть… Площадь, где проходили гуляния на узбекских праздниках, особенно после уразы – религиозного поста. Да, Шейхантаур… это был город в городе, знаете… Такой Багдад: путаный бесконечный лабиринт переулков, тупиков, бесчисленного множества узбекских дворов… А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху – балхана… Не знаете? Ну как бы объяснить вам… это балкон – не балкон… не антресоль… а нечто вроде пристройки наверху… так что дом тогда казался двухэтажным… А крыши… они земляными были, поэтому весной на них прорастала трава, трепетали нежным пламенем первые маки под еще свежим ветерком…
По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост – айван, или супу… бросали на него множество курпачей – небольших, простеганных вручную, ватных одеял. От них всегда попахивало прелым человеческим душком, стирать их не стирали, а вывешивали на солнце – сушили, проветривали… На айване спали, принимали гостей, чаи распивали… От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял…
Во дворе всегда была пристройка, кухня, и низкая кирпичная, обмазанная глиной, печь – тандыр, в ней пекли лепешки, самсу… Дух горячей узбекской лепешки забыть невозможно, он снится мне здесь, в штате Юта, по ночам… Снится, как молодой узбек палкой поддевает ее, вынимает, – круглую, в подпалинах на бугорках, с обожженными зернышками тмина, а посередке у нее вдавленный такой, жесткий, хрусткий пятачок, за который можно душу дьяволу продать! И от нее волна горячего запаха… как бы это объяснить… материнского запаха, знаете… вот, слов не хватает!.. Да мир на этом запахе стоит!
А в самих домах были низкие такие, как кофейные столики, печки – не помню принцип, по которому они работали, врать не стану… а только сидел ты на полу, на курпачах, ноги засовывал под этот столик и чувствовал тепло… Было замечательно! А стряпали многие во время войны на чем? На мангалке! Я, знаете, за свою жизнь бывал во многих местах, поездил по командировкам, но нигде больше такой народный агрегат не встречал. Сейчас опишу… Берется старое ведро и из него делается печка. Дырявятся по бокам два отверстия – одно для дров, другое – золу выгребать. Поверху – решетка из толстой проволоки. Чтоб железо не прогорело, изнутри ведро выложено обломками кирпича и обмазано глиной. На мангалках половина Ташкента всю войну варила и кипятила…
Вот что озадачивало у них с непривычки – туалет. Обычная пристройка в углу двора, с дыркой, чтоб сидеть на корточках, а у стенки – ведро, полное круглых глиняных камней. Если у русских в туалетах на гвоздике висели обрывки газет или листки из школьных тетрадей, то у узбеков, вот, камни использовались для этой нужды… Интересно, правда?… Мы, конечно, притаскивали свой материал для такого ответственного дела. Помню, в туалете мне попался лист из какого-то старого журнала, там была напечатана вредная белогвардейская поэма, называлась «Драма русскаго офицерства», и внизу страницы: «Типография Г.А. Ицкина, въ Ташкента». Взрослые не обращали внимания – чем подтирались, хозяева-узбеки тем более… А я просек что-то необычное, запретное… пацана запретным только помани! Приволок лист домой… И так мне отец за него по ушам навесил!.. Лично сжег на свечке! Да только поздно, поздно… память детская, само все в нее влетает… я уже наизусть много строчек знал, хотя не все. Представляете – даже сейчас начало помню. Там так:
Христосъ Всеблагiй, Всесвятый, Безконечный
Услыши молитву мою.
Услыши меня, о Заступникъ Предвечный.
Пошли мне погибель, въ бою.
На родину нашу намъ нету дороги:
Народъ нашъ на насъ на же воссталъ,
Для насъ онъ воздвигъ погребальныя дроги
И грязью насъ всъхъ закидалъ.
Въ могилахъ глубокихъ безъ счета и меры
Въ своем и враждебныхъ краяхъ
Сномъ вечным уснули бойцы офицеры,
Погибшiе въ славныхъ бояхъ.
Но мало того показалось народу:
И вотъ, чтобъ прибавить могилъ,
Он, нашей же кровью купившiй свободу,
Своихъ офицеровъ убилъ.
Ну и так далее, дальше уже не помню… Что за народ? Каких таких своих офицеров он убил? Когда все это стряслось? Взрослых я спрашивать опасался: шла наша собственная война, где героями были и солдаты, и офицеры… И долго мне смысл этой поэмы казался темным…
Да, так, Шейхантаур… там все было свое – парикмахерские, школы, Юридический институт, зубоврачебный кабинет, рынок… Даже кинофабрика – в ней еще немые фильмы снимались! И все жили скопом, как в кучу наваленные… По соседним дворам у нас много лепилось раскулаченных русских, старообрядцев, были татары, армяне, евреи… Во время войны эвакуированные жили даже в мечети, позже она была складом, а с возрождением национальной независимости… но этого я уже не знаю, это уже не при мне…
Ну и чайханы на каждом шагу… Узбекский мужчина без чайханы не может никак – это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане в чапанах – полосатых и синих ватных халатах, в чалмах, в тюбетейках… и весь день пьют чай, потеют… – им пот служит вентилятором, а чапан удерживает температуру тела в течение всего дня… Вековые народные традиции – так спасаются от жары… Но еще – и это тоже, никуда не деться, вековые традиции! – из темной глубины помещения всегда потягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему – анаши… Восток без дурмана, говорил мой отец, что скупой без кармана.
Лет пять назад приезжал я уже отсюда, из Солт-Лейк-Сити, в Ташкент – взглянуть на свою первую школу… Ничего не узнал! Все перестроили; вместо милых ташкентских особнячков – какие-то циклопические сооружения псевдо-мавританского шика: купола, арки, мраморные гигантские площади под нещадным солнцем… Идешь к такому издали, думаешь – ну, это, наверное… парламент? Величественный, инопланетный, нечеловеческих пропорций… Театр на двадцать тысяч мест? Подходишь ближе, выясняется: какой-нибудь Дом моделей.
А от Шейхантаура, моего Шейхантаура, который я избегал босыми ногами вдоль и поперек, и кругом, и петлями, так что моей «стезей» уличной можно бы, наверное, обернуть экватор… – от Шейхантаура осталась только изразцовая мечеть. Стоит, как ворота в никуда – в город, которого нет больше ни на одной карте…».
3
Нищие старики и старухи стоят у крыльца булочной, что на Каблукова, ждут – иногда какие-то сумасшедшие, отоварив карточки, дают им довески. Но Катя никогда не дает – как можно?! Хлеб?! Разве хлеб можно отдать, хотя бы крошку?! Нет, она торопясь проходит мимо, и, только отойдя шагов на двадцать, достает из пакета довесок и медленно съедает: сначала пережевывает мякоть, не глотая, – тогда слюна проникает во все крошки, наполняет их, пружинистая пористая плоть хлеба набухает, превращаясь там, во рту, во вкуснейшую кашу… Теперь можно постепенно глотать, распределяя кашу языком на части…
Иногда, если день начинается удачно, довесок попадается с мягкой, еще теплой коричневой корочкой. Ее можно с самого начала отгрызть, подержать в кулаке, пока лелеешь во рту мякоть, а потом всю дорогу до дому сосать корочку, пока и она не растворится совсем. Но и тогда еще долго вылавливаешь из-за щеки и подталкиваешь языком к зубам разбухшие крошки…
Еще Саша на своем авиационном заводе добывает талоны на обед. Обеды выдают в консерваторской столовой, через окошко, во дворе. Надо только приходить со своей кастрюлькой. И Катя приходит, ни разу не пропустила! Она лучше школу пропустит! Чего она в той школе не видела? Все равно мысли только о еде… К окошку выстраивается очередь, но это ничего, постоять можно, только Катя всегда волнуется, что ей не хватит. Первые блюда разливает алюминиевым мятым половником здоровенный мордатый парень с кудрявым чубом через все лицо. Заставить бы его подхватить заколкой, чтоб в половник не попал. Однажды в очереди перед Катей стоял пожилой дядечка с седой бородкой, в шляпе. Он принял у мордатого свою кастрюльку, отошел в сторону и стал выливать мутную жижу на землю. Вернулся к окошку и спрашивает: «Какой у вас выход?» Мордатый что-то буркнул. А тот: «Нет, здесь не будет столько!» – «Да чего ты привязался!» – «А того, что я и сам был поваром и знаю, что к чему!» Повернулся и пошел с пустой кастрюлькой. А чубатый вслед ему нагло и насмешливо пропел: «Сам был поваром и знает, что все повара воруют!»… И вся очередь промолчала, словно люди боялись, что следующему затируха не достанется…
К обеду полагался еще кусочек черного хлеба, его выдавали в буфете, это с главного входа консерватории и направо. Буфетчица обмотана крест-накрест оренбургским платком и точно таким же платком обмотана ее толстая дочь-даун, Катиного возраста. Она все время смотрит на Катю сонными добрыми глазками… Наверное, жрет с утра до вечера, вот и добрая, вот и спать хочется… Этих всех, добрых, Катя ненавидела особенно: если добрая да улыбается, значит, уж точно что-то у меня украла…
Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало счастье! Главное, Катя с утра чувствовала, что сегодня случится что-то особенное! Толстая буфетчица резала пирог, взвешивала порции, и короткие ее пальцы лоснились от повидла… Катя продвигалась в очереди, неотрывно смотрела на сладкие эти пальцы с отставленным в сторону мизинцем и лихорадочно думала: «Чего ж она пальцы-то не оближет?! Или дала бы дочери полизать…»
Эх, а вот бывает же счастье: однажды перед школой, как раз когда все высыпали во двор на перемену, опрокинулась двуколка, а вместе с ней и бочка патоки. Бочка лежала на боку, патока вытекала черной густой сладчайшей кровью, в луже ее топталась лошадь, которую дурак-возница никак не мог выпрячь… В секунду, как рой мух, на лужу налетела малышня, совала пальцы в патоку, облизывала. Кате тогда много досталось – она билась как безумная, раскидала многих… В классе ее даже мальчишки боятся…
У входа в консерваторию тоже слоняются нищие. Они очень надоедливые, хотя не все, – вот на Пушкинской, между домами 39 и 41, всегда сидит инвалид, играет на камышовой дудке одну и ту же бесконечную мелодию – однообразную, очень грустную. Никогда ничего не просит, костыли рядом лежат, на земле. Люди проходят и что-то дают. Но Катя?! – Нет, нет! Тем более никогда ничего она не даст Примусу – чокнутому бородатому деду с палкой. Примус, тот, наоборот, никогда не сидит на месте. Его можно увидеть где угодно – на Шейхантауре Катя тоже встречала его не раз, а однажды видела, как он с проклятьями гонялся за пацанами, которые дразнили его: «Примус, Примус, горелая жопа!», и бросался на них как дикий, чуть Кате не досталось палкой…
Вот кого надо опасаться – это беспризорников. Они воруют карточки, и нет ничего страшнее на свете, чем карточки потерять. Недавно Катя видела женщину, у которой беспризорники вытащили карточки на месяц. А месяц ведь только начался! Та сидела на крыльце булочной и выла, как бешеная собака, и кусала свои руки с такой силой, что по ним уже и кровь лилась. Люди толпились вокруг, жалели, конечно, но чем тут поможешь?… Не будь растяпой…
Нет, все-таки хорошо в Ташкенте, вот уже скоро весна, значит, тепло придет, и – солнце будет все лето! Все лето будет солнце…
* * *
… И долго еще Катя жила с ощущением подаренной жизни, долго; пока на авиационном заводе, где работал Саша, не взорвался паровой котел. Люди всякое говорили, кто-то утверждал, что не сработал изношенный предохранительный клапан. Но больше было таких, кто горел ненавистью к расплодившимся врагам народа; всплыло ходкое в те годы слово «диверсия», делу был дан соответствующий ход, всех, кто в ту ночь дежурил на заводе, и Сашу в том числе, судили, и припаяли большой срок. Но Саша до тех мест, где выпало срок отбывать, не доехал, он умер по дороге от сердечного приступа. Так Кате сказали в окошке, а идти добиваться правды она боялась. Да и куда идти?
В тот год она заканчивала ФЗУ по специальности «швея-мотористка», жила в общежитии и уже не верила в подаренную жизнь, а понимала, что нужно отчаянно драться и много вытерпеть за этот подарок.
– Ну что, Саша, – строго прошептала она колючими сухими губами, – не поедем уже на острова на лодке кататься…
Сделала на руке наколку «Саша» – синей тушью и, чтобы перебить в себе щенячий скулеж тоски, больно укусила свой кулак.
В этот же вечер Катя побила соседку по комнате, шуструю компанейскую хохлушку, – за то, что та потешалась над ее шепелявостью.
* * *
«… – Тебе когда-нибудь снится военный Ташкент, мам?
Хадича несколько раз поднималась на балхану, смотрела на девочку, качала головою и бормотала что-то по-узбекски. Под вечер, завернув в головной платок сапоги старшего сына, Хикмата, ушла и вернулась через час без сапог, осторожно держа обеими руками поллитровую банку кислого молока.
– Кизимкя, бир пиалушкя катык кушяй, – озабоченно приговаривала она, натряхивая в пиалу белую комковатую жижу.
– Оставьте ее… – угрюмо простонал Саша, – все равно вырвет…
И тут лицо тихой Хадичи изменилось: она тонко и гневно закричала что-то по-узбекски, даже замахнулась на Сашу худым коричневым кулачком, сморщенным и похожим на сливу-сухофрукт.
Осторожно подложив ладонь под легкую Катину голову, приподняла ее и поднесла к губам девочки пиалу. Катя потрогала губами прохладную кисловатую массу, похожую на жидкий студень из клея, а еще на довоенный кефир… послушно отхлебнула и потянулась – еще.
Хадича отняла пиалу, покачав головой: нельзя сразу. Весь вечер она просидела возле девочки, разрешая время от времени делать два-три глотка…
На другой день размочила в оставшемся молоке несколько кусочков лепешки и позволила Кате съесть тюрю.
Саша уже не плакал. Он бегал к колонке за водой, раздувал самовар, помогал у тандыра, подметал двор, и бог знает что еще готов был сделать для этой женщины, для ее четверых, тоже хронически голодных, смуглых, точно сушеных, ребятишек.
Двое старших сыновей Хадичи постигали правила русского языка в окопах Второго Украинского фронта, муж давно умер.
Дня через три Катя уже сидела во дворе на большой квадратной супе, свесив слабые тонкие ноги, опираясь спиною о подоткнутые Хадичой подушки, и глядела с тихим удивлением на крикливые игры ее черноглазых детей. Говор ей был непонятен, а игры – понятны все…
С того военного лета этот город, эти узбекские дворики с теплой утоптанной землею, эти сквозистые кроны чинар, погруженные в глубину неба, означали для нее больше, чем просто – жизнь; все это было жизнью подаренной.
* * *
«– …Это вы замечательно решили – писать роман о Ташкенте! Такой город не должен быть забыт… И, знаете, здорово придумано – собирать „голоса“. Каждый такой голос – а нас, бывших ташкентцев, по всему свету разбросано немало, – может вам отдельный роман наговорить, роман своей жизни. И я с удовольствием наговорю, что помню…
Я тут недавно набрел в Интернете на сайт под названием «Алайский»… и там перекличка наших земляков: «Кто учился в мужской средней школе им. Сталина, Хорезмская, 8, – откликнитесь!»… «Кто с Тезиковки, ребята, – отзовитесь!»… Какой-то местный парень берет заказы на фотографии. Ты называешь объект: главпочтамт, например… – помните каменных львов на его угловом, вечно заколоченном парадном? Говорили, что это единственные каменные львы в городе. У меня они ассоциируются с детством, потому что няня разрешала посидеть верхом то на одном, то на другом – они в разные стороны смотрели, словно торчали на шухере… Или, например, консерватория… или памятник в парке Тельмана… Так, значит, этот парень фотографирует за сущие копейки и присылает – все-таки память… Очень удобно! Вот живешь ты у себя в Солт-Лейк-Сити лет эдак тридцать, а снится тебе ночами Шейхантаур, сине-лазурный орнамент на мавзолее шейха Хавенди Тохура… кладбище, мечеть… Площадь, где проходили гуляния на узбекских праздниках, особенно после уразы – религиозного поста. Да, Шейхантаур… это был город в городе, знаете… Такой Багдад: путаный бесконечный лабиринт переулков, тупиков, бесчисленного множества узбекских дворов… А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху – балхана… Не знаете? Ну как бы объяснить вам… это балкон – не балкон… не антресоль… а нечто вроде пристройки наверху… так что дом тогда казался двухэтажным… А крыши… они земляными были, поэтому весной на них прорастала трава, трепетали нежным пламенем первые маки под еще свежим ветерком…
По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост – айван, или супу… бросали на него множество курпачей – небольших, простеганных вручную, ватных одеял. От них всегда попахивало прелым человеческим душком, стирать их не стирали, а вывешивали на солнце – сушили, проветривали… На айване спали, принимали гостей, чаи распивали… От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял…
Во дворе всегда была пристройка, кухня, и низкая кирпичная, обмазанная глиной, печь – тандыр, в ней пекли лепешки, самсу… Дух горячей узбекской лепешки забыть невозможно, он снится мне здесь, в штате Юта, по ночам… Снится, как молодой узбек палкой поддевает ее, вынимает, – круглую, в подпалинах на бугорках, с обожженными зернышками тмина, а посередке у нее вдавленный такой, жесткий, хрусткий пятачок, за который можно душу дьяволу продать! И от нее волна горячего запаха… как бы это объяснить… материнского запаха, знаете… вот, слов не хватает!.. Да мир на этом запахе стоит!
А в самих домах были низкие такие, как кофейные столики, печки – не помню принцип, по которому они работали, врать не стану… а только сидел ты на полу, на курпачах, ноги засовывал под этот столик и чувствовал тепло… Было замечательно! А стряпали многие во время войны на чем? На мангалке! Я, знаете, за свою жизнь бывал во многих местах, поездил по командировкам, но нигде больше такой народный агрегат не встречал. Сейчас опишу… Берется старое ведро и из него делается печка. Дырявятся по бокам два отверстия – одно для дров, другое – золу выгребать. Поверху – решетка из толстой проволоки. Чтоб железо не прогорело, изнутри ведро выложено обломками кирпича и обмазано глиной. На мангалках половина Ташкента всю войну варила и кипятила…
Вот что озадачивало у них с непривычки – туалет. Обычная пристройка в углу двора, с дыркой, чтоб сидеть на корточках, а у стенки – ведро, полное круглых глиняных камней. Если у русских в туалетах на гвоздике висели обрывки газет или листки из школьных тетрадей, то у узбеков, вот, камни использовались для этой нужды… Интересно, правда?… Мы, конечно, притаскивали свой материал для такого ответственного дела. Помню, в туалете мне попался лист из какого-то старого журнала, там была напечатана вредная белогвардейская поэма, называлась «Драма русскаго офицерства», и внизу страницы: «Типография Г.А. Ицкина, въ Ташкента». Взрослые не обращали внимания – чем подтирались, хозяева-узбеки тем более… А я просек что-то необычное, запретное… пацана запретным только помани! Приволок лист домой… И так мне отец за него по ушам навесил!.. Лично сжег на свечке! Да только поздно, поздно… память детская, само все в нее влетает… я уже наизусть много строчек знал, хотя не все. Представляете – даже сейчас начало помню. Там так:
Христосъ Всеблагiй, Всесвятый, Безконечный
Услыши молитву мою.
Услыши меня, о Заступникъ Предвечный.
Пошли мне погибель, въ бою.
На родину нашу намъ нету дороги:
Народъ нашъ на насъ на же воссталъ,
Для насъ онъ воздвигъ погребальныя дроги
И грязью насъ всъхъ закидалъ.
Въ могилахъ глубокихъ безъ счета и меры
Въ своем и враждебныхъ краяхъ
Сномъ вечным уснули бойцы офицеры,
Погибшiе въ славныхъ бояхъ.
Но мало того показалось народу:
И вотъ, чтобъ прибавить могилъ,
Он, нашей же кровью купившiй свободу,
Своихъ офицеровъ убилъ.
Ну и так далее, дальше уже не помню… Что за народ? Каких таких своих офицеров он убил? Когда все это стряслось? Взрослых я спрашивать опасался: шла наша собственная война, где героями были и солдаты, и офицеры… И долго мне смысл этой поэмы казался темным…
Да, так, Шейхантаур… там все было свое – парикмахерские, школы, Юридический институт, зубоврачебный кабинет, рынок… Даже кинофабрика – в ней еще немые фильмы снимались! И все жили скопом, как в кучу наваленные… По соседним дворам у нас много лепилось раскулаченных русских, старообрядцев, были татары, армяне, евреи… Во время войны эвакуированные жили даже в мечети, позже она была складом, а с возрождением национальной независимости… но этого я уже не знаю, это уже не при мне…
Ну и чайханы на каждом шагу… Узбекский мужчина без чайханы не может никак – это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане в чапанах – полосатых и синих ватных халатах, в чалмах, в тюбетейках… и весь день пьют чай, потеют… – им пот служит вентилятором, а чапан удерживает температуру тела в течение всего дня… Вековые народные традиции – так спасаются от жары… Но еще – и это тоже, никуда не деться, вековые традиции! – из темной глубины помещения всегда потягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему – анаши… Восток без дурмана, говорил мой отец, что скупой без кармана.
Лет пять назад приезжал я уже отсюда, из Солт-Лейк-Сити, в Ташкент – взглянуть на свою первую школу… Ничего не узнал! Все перестроили; вместо милых ташкентских особнячков – какие-то циклопические сооружения псевдо-мавританского шика: купола, арки, мраморные гигантские площади под нещадным солнцем… Идешь к такому издали, думаешь – ну, это, наверное… парламент? Величественный, инопланетный, нечеловеческих пропорций… Театр на двадцать тысяч мест? Подходишь ближе, выясняется: какой-нибудь Дом моделей.
А от Шейхантаура, моего Шейхантаура, который я избегал босыми ногами вдоль и поперек, и кругом, и петлями, так что моей «стезей» уличной можно бы, наверное, обернуть экватор… – от Шейхантаура осталась только изразцовая мечеть. Стоит, как ворота в никуда – в город, которого нет больше ни на одной карте…».
3
Нищие старики и старухи стоят у крыльца булочной, что на Каблукова, ждут – иногда какие-то сумасшедшие, отоварив карточки, дают им довески. Но Катя никогда не дает – как можно?! Хлеб?! Разве хлеб можно отдать, хотя бы крошку?! Нет, она торопясь проходит мимо, и, только отойдя шагов на двадцать, достает из пакета довесок и медленно съедает: сначала пережевывает мякоть, не глотая, – тогда слюна проникает во все крошки, наполняет их, пружинистая пористая плоть хлеба набухает, превращаясь там, во рту, во вкуснейшую кашу… Теперь можно постепенно глотать, распределяя кашу языком на части…
Иногда, если день начинается удачно, довесок попадается с мягкой, еще теплой коричневой корочкой. Ее можно с самого начала отгрызть, подержать в кулаке, пока лелеешь во рту мякоть, а потом всю дорогу до дому сосать корочку, пока и она не растворится совсем. Но и тогда еще долго вылавливаешь из-за щеки и подталкиваешь языком к зубам разбухшие крошки…
Еще Саша на своем авиационном заводе добывает талоны на обед. Обеды выдают в консерваторской столовой, через окошко, во дворе. Надо только приходить со своей кастрюлькой. И Катя приходит, ни разу не пропустила! Она лучше школу пропустит! Чего она в той школе не видела? Все равно мысли только о еде… К окошку выстраивается очередь, но это ничего, постоять можно, только Катя всегда волнуется, что ей не хватит. Первые блюда разливает алюминиевым мятым половником здоровенный мордатый парень с кудрявым чубом через все лицо. Заставить бы его подхватить заколкой, чтоб в половник не попал. Однажды в очереди перед Катей стоял пожилой дядечка с седой бородкой, в шляпе. Он принял у мордатого свою кастрюльку, отошел в сторону и стал выливать мутную жижу на землю. Вернулся к окошку и спрашивает: «Какой у вас выход?» Мордатый что-то буркнул. А тот: «Нет, здесь не будет столько!» – «Да чего ты привязался!» – «А того, что я и сам был поваром и знаю, что к чему!» Повернулся и пошел с пустой кастрюлькой. А чубатый вслед ему нагло и насмешливо пропел: «Сам был поваром и знает, что все повара воруют!»… И вся очередь промолчала, словно люди боялись, что следующему затируха не достанется…
К обеду полагался еще кусочек черного хлеба, его выдавали в буфете, это с главного входа консерватории и направо. Буфетчица обмотана крест-накрест оренбургским платком и точно таким же платком обмотана ее толстая дочь-даун, Катиного возраста. Она все время смотрит на Катю сонными добрыми глазками… Наверное, жрет с утра до вечера, вот и добрая, вот и спать хочется… Этих всех, добрых, Катя ненавидела особенно: если добрая да улыбается, значит, уж точно что-то у меня украла…
Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало счастье! Главное, Катя с утра чувствовала, что сегодня случится что-то особенное! Толстая буфетчица резала пирог, взвешивала порции, и короткие ее пальцы лоснились от повидла… Катя продвигалась в очереди, неотрывно смотрела на сладкие эти пальцы с отставленным в сторону мизинцем и лихорадочно думала: «Чего ж она пальцы-то не оближет?! Или дала бы дочери полизать…»
Эх, а вот бывает же счастье: однажды перед школой, как раз когда все высыпали во двор на перемену, опрокинулась двуколка, а вместе с ней и бочка патоки. Бочка лежала на боку, патока вытекала черной густой сладчайшей кровью, в луже ее топталась лошадь, которую дурак-возница никак не мог выпрячь… В секунду, как рой мух, на лужу налетела малышня, совала пальцы в патоку, облизывала. Кате тогда много досталось – она билась как безумная, раскидала многих… В классе ее даже мальчишки боятся…
У входа в консерваторию тоже слоняются нищие. Они очень надоедливые, хотя не все, – вот на Пушкинской, между домами 39 и 41, всегда сидит инвалид, играет на камышовой дудке одну и ту же бесконечную мелодию – однообразную, очень грустную. Никогда ничего не просит, костыли рядом лежат, на земле. Люди проходят и что-то дают. Но Катя?! – Нет, нет! Тем более никогда ничего она не даст Примусу – чокнутому бородатому деду с палкой. Примус, тот, наоборот, никогда не сидит на месте. Его можно увидеть где угодно – на Шейхантауре Катя тоже встречала его не раз, а однажды видела, как он с проклятьями гонялся за пацанами, которые дразнили его: «Примус, Примус, горелая жопа!», и бросался на них как дикий, чуть Кате не досталось палкой…
Вот кого надо опасаться – это беспризорников. Они воруют карточки, и нет ничего страшнее на свете, чем карточки потерять. Недавно Катя видела женщину, у которой беспризорники вытащили карточки на месяц. А месяц ведь только начался! Та сидела на крыльце булочной и выла, как бешеная собака, и кусала свои руки с такой силой, что по ним уже и кровь лилась. Люди толпились вокруг, жалели, конечно, но чем тут поможешь?… Не будь растяпой…
Нет, все-таки хорошо в Ташкенте, вот уже скоро весна, значит, тепло придет, и – солнце будет все лето! Все лето будет солнце…
* * *
… И долго еще Катя жила с ощущением подаренной жизни, долго; пока на авиационном заводе, где работал Саша, не взорвался паровой котел. Люди всякое говорили, кто-то утверждал, что не сработал изношенный предохранительный клапан. Но больше было таких, кто горел ненавистью к расплодившимся врагам народа; всплыло ходкое в те годы слово «диверсия», делу был дан соответствующий ход, всех, кто в ту ночь дежурил на заводе, и Сашу в том числе, судили, и припаяли большой срок. Но Саша до тех мест, где выпало срок отбывать, не доехал, он умер по дороге от сердечного приступа. Так Кате сказали в окошке, а идти добиваться правды она боялась. Да и куда идти?
В тот год она заканчивала ФЗУ по специальности «швея-мотористка», жила в общежитии и уже не верила в подаренную жизнь, а понимала, что нужно отчаянно драться и много вытерпеть за этот подарок.
– Ну что, Саша, – строго прошептала она колючими сухими губами, – не поедем уже на острова на лодке кататься…
Сделала на руке наколку «Саша» – синей тушью и, чтобы перебить в себе щенячий скулеж тоски, больно укусила свой кулак.
В этот же вечер Катя побила соседку по комнате, шуструю компанейскую хохлушку, – за то, что та потешалась над ее шепелявостью.
* * *
«… – Тебе когда-нибудь снится военный Ташкент, мам?