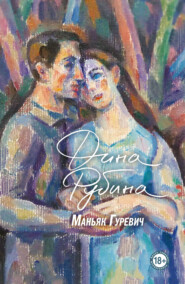По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская канарейка. Желтухин
Автор
Серия
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В последние годы у Зверолова обнаружилась глаукома; он ее никак не лечил. Кажется, даже любовался некоторыми изменениями, принесенными ею в окружающий мир. Во всяком случае, Илюше хвастался:
– Исповедальню видишь? Просто шкаф, да? Во-о-от. А у меня она вся в лиловом мерцании… Окно видишь? Окно и окно, да? А у меня все оно сиянием охвачено, вроде северного: острые лучики – от белого до сиреневого.
Почему все оборвалось так нелепо и грустно; почему еще бодрый могучий старик ушел помирать (в коммуналку ушел, к своей скучной учительнице, которая как раз уехала на два месяца к сестре в Семипалатинск, да и вся коммуналка, все три комнаты – как только в пьесах бывает, чтобы сюжет сладился, – разъехалась на каникулы. Так и лежал там один до самого конца), для Ильи долго оставалось загадкой, как и загадочная бабушкина фраза о легкой его голове.
Бабушка всем объясняла, что Зверолов боялся ослепнуть и стать беспомощным, в тягость родным.
Чепуха! Ее обычная лакировочная версия.
Как он замучивал себя? – пытался представить Илюша. Представлять было трудно, совсем невозможно: ведь напоследок Зверолов все равно должен был видеть свою нежную радугу, очарованным странником уйти, с легкой головой, в ореоле ее острых бело-сиреневых лучей…
Вот, собственно, и все – о нем. Осталось только добавить, что тахта, на которой он спал, называлась «рыдван»; чемодан, что под ней хранился, – «рундук». А еще по всему дому валялись химические карандаши – с Гражданской их полюбил, уверял, что писать удобно.
Илья впоследствии долго натыкался на эти карандаши по разным углам, разок подобрал и сам пристрастился; правда, удобно: послюнил грифель, и вот, пожалте, – «не вырубишь топором».
* * *
В рундуке под «рыдваном» оказались: плащ из бычьей кожи времен Гражданской войны; кальсоны, рубашка, очки; зеленое, легчайшее верблюжье одеяло; справочники «Гладиолусы» и «Русская канарейка»; неказистая белая монета царской чеканки: на одной стороне – затертый двуглавый орел, на обратной – буквы: «3 рубли на серебро 1828 Спб»; и папка с документами.
В папке хранились мандат двадцатых годов на ношение огнестрельного оружия за подписью какого-то Якова Михайлова, телеграмма с просьбой о поставке лягушек для Ташкентского зоопарка, записки людей, безуспешно искавших его между Ташкентом и Алма-Атой, и старая коричневатая, с обломанными уголками карточка (понизу выведено славянской вязью: «Придворная фотография Я. Тираспольский и А. Горнштейн, г. Одесса»), на которой манерная, знойного облика девица губами тянулась к кенарю на жердочке.
Плащ был Илюше и раньше знаком – огромный, тяжелый, из толстой бычьей кожи, он мог стоять на полу сам, без человека внутри. От него довольно приятно пахло: кожей и чуть-чуть касторкой – смазывали на лето, чтобы не растрескался. В раннем детстве Илюша играл в нем, как в шалаше. Так что плащ был давним знакомцем – помнится, летом они с бабушкой сообща выносили его во двор (весил он килограммов семь-восемь), переваливали через веревку и караулили, по очереди сидя посреди двора на старом венском стуле, из-за треснутого сиденья изгнанном из парадных стульев столового ранжиру.
Да, плащ был выдающийся, и кроя отменного. Илья потом видел похожий на Жеглове из места встречи, которое нельзя изменить: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник, застегивающийся под горло, – тогда остается еще воротник маленький. Длинный черный плащ, даже Зверолову длинный: до середины икры.
Якобы тянулся за ним романтический шлейф: бабушка говорила, что в этом плаще Зверолов ночевал зимой под окнами какой-то одесской балерины. Ну, ночевал или не ночевал, балерины или кого там еще, а только плащ бабушка отдала Абдурашитову. Под зеленым легчайшим верблюжьим одеялом (полезная вещь!) много лет потом спал сам Илья, а позже – его единственная, обожаемая драгоценная дочь, которая… Нет! Рановато о ней.
Сначала о канарейках.
Само собой, ухаживать за всем этим птичьим населением стало некому. Пригласили старика Морковного с Татарки, и тот за бесценок – да у бабушки и сил не было торговаться – забрал всех птиц, в том числе и Желтухина Второго. А главное, забрал исповедальню. Вот чего Илья долго не мог бабушке простить: она всегда мечтала избавиться от «этого саркофага». Хотя, если подумать, не лишать же такого выдающегося артиста, такого, по словам Зверолова, «страстного маэстро», как Желтухин Второй, его законного жилища.
Сделка свершилась, когда мальчик был в школе. Вернувшись, он застал странно пустую, странно облезлую и, главное, странно безмолвную комнату. «Опустел наш сад, вас давно уж нет…» Вот теперь Разумович мог играть на своей проклятой флейте до потери сознания.
Это потрясло Илюшу сильнее, чем сама смерть Зверолова, чем похороны, чем плывущая в гробу на плечах незнакомых и хмурых мужчин его легкая голова – голова человека, что вдруг захотел умереть и потому не страдал.
Весь вечер Илюша проплакал, словно лишь теперь понял, что Зверолов не вернется никогда. А может, в этом бесптичье и безмолвии его сердце подспудно прозрело образ иного безмолвия – того, что много лет спустя обрушится на любимое существо?..
5
К девятому этажу бетонно-стеклянной башни, населенной редакциями чуть ли не всех казахстанских газет и журналов, сладкими волнами поднимались одуряющие запахи из соседней кондитерской фабрики. Ароматы ванили, патоки, цукатов, горячего темного шоколада под конец дня становились невыносимы, а с голодухи даже тошнотворны – тем более что с утра просыпался Зеленый базар напротив, раскочегаривал свои тандыры, раздувал угли для шашлыков, насаживал кусочки баранины на палочки и выкладывал их рядком на мангалы.
Опрятные кореянки выставляли на прилавки миски со своими остро-пахучими салатами и закусками, всеми этими пряными морковками, капустами, грибами, требухой, фунчозой, рыбным и мясным хе…
Сухие терпкие струи запахов – перец, куркума, кинза, зира, барбарис – витали над мисками и горками разноцветных специй, и вся эта благоуханная отрава, смешавшись за день с приторным духом кондитерского рая, под вечер способна была довести голодного человека до обморока.
В редакции время от времени появлялся Ванильный Дед – старый казах с покалеченным лицом: правая половина была окаменелой и какой-то рубчато-вельветовой; левая беспрестанно дергалась, будто он не переставал ухмыляться миру и людям. Ванильный Дед приносил ворованную на кондитерской фабрике ваниль, расфасованную в пробирки, заткнутые пробкой из жеваной газеты. Редакционные бабы дожидались его появления с каким-то исступленным хозяйственным вожделением (ходил он по одному ему известному графику), гоняясь за ним по всем этажам здания, словно его товаром был не этот кондитерский вздор, а какое-нибудь спасительное заграничное лекарство для безнадежного больного.
– Ванильный Дед не появлялся? – влетая в комнату, спрашивала запыхавшаяся машинистка Люба.
Ей отвечала корректор Александра Трофимовна:
– Бегите на третий, Люба. Должен быть там, если не ушел.
Илья терпеть не мог эту советскую стеклянную девятиэтажку, студеную зимой и нестерпимо душную летом. На всю редакцию республиканской пионерской газеты «Веселые отряды» был один бестолковый кондиционер, работавший в каком-то своем творческом режиме.
Выросший на земле, в апортовых садах, Илья высоту ненавидел и втайне ее боялся. А в здании даже лестницы были мерзкими: ступени – просто бетонные плиты на опорах, сквозь них – пустота. Он предпочитал спускаться в лифте, но за годы студенчества пережил тут несколько землетрясений, однажды надолго застряв в темной и душной кабине; и пока, упершись лбом в фанерованную стенку, обреченно ожидал вызволения, думал почему-то о Желтухине Втором, который всю жизнь провел вот в такой кромешной тьме ради редких минут ликующего пения.
С тех пор твердо решил спускаться на своих двоих, стараясь, однако, не слишком заглядывать под ноги.
После работы Илья выскакивал из здания редакций и бежал на Зеленый базар: купить в забегаловке поджаристую кунжутную лепешку, острый домашний сыр с тмином и базиликом или запихнуть за щеку соленый курт – поскорей заесть першащую в горле кондитерскую сладость…
Уже в то студенческое время он начал лысеть – поразительно рано. Но высокий рост, обаятельная легкая сутулость и немного рассеянные, ироничные темно-карие глаза вполне обеспечивали ему внимание женщин, тем более что бабушкино «хорошее воспитание», столь досаждавшее ему в детстве и вконец осточертевшее в юности, как выяснилось, в любой компании выгодно его отличало.
Впрочем, его карьера покорителя женских сердец (три очень разных блиц-романа на первом же курсе; особенно приставучая благосклонность секретарши ректора Сони Сопрыкиной) оборвалась в тот воскресный день на Медео, когда он увидел Гулю – заметил ее на огромном слепящем катке: в этом своем синем платье, с широченной юбкой, вихрящейся вокруг невероятно тонкой талии. Сидя на деревянной лавочке, он надевал коньки. И когда поднялся на ноги, чтобы выйти на лед, увидел впереди стремительное кружение синей юлы. Вмиг это напомнило ему облачно-журавлиное кружение далекого весеннего дня, и, возможно, поэтому Илью даже издали поразило сходство ее разгоряченного под горным весенним солнцем лица с почти забытым лицом Земфиры.
Он решительно подъехал и заговорил, мысленно благословляя свой какой-никакой галантерейный мужской опыт, а иначе не решился бы ни за что.
И после, счастливый, ошеломленный тем, что получилось, на очень легких после коньков ногах повел угощать ее шашлыком – много их, шашлычников, стояло вдоль дороги: пряный синий дымок в холодном воздухе. И ели они стоя, жадно стаскивая зубами с палочек кусочки вкуснейшей баранины. Под мостом среди снега, льда и камней стеклянно бренчала речка. Футляр со скрипкой (после катка Гюзаль должна была ехать на репетицию) он неудобно и осторожно держал под мышкой, боясь уронить и время от времени делая вид, что роняет, – тогда она округляла в испуге длинные сердоликовые глаза под высокими ласточкиными бровями.
Это было время его короткого и вялого мятежа против бабушки: борясь за свою хотя бы номинальную самостоятельность и взрослость, он не брал у нее денег, не сообщал, когда придет домой, а однажды, не предупредив, остался ночевать у сокурсника, о чем потом сильно сожалел: вернувшись, застал ее в состоянии невменяемом: исступленные глаза блестели окаменелым горем, руки тряслись, а Разумович, оказывается, за ночь успел обегать все больницы и морги.
– Да что, что со мной может случиться?! – кричал Илья.
– Прекратите третировать бедную старуху! – сквозь зубы сказал ему Разумович, и оттого, что тот, знавший Илью с младенчества, вдруг обратился к нему на «вы», а бабушку назвал «старухой», Илья замешкался, криво ухмыльнулся, собираясь с ответом, но уже в следующую минуту понял, что проиграл, и мысленно махнул рукой на свои революционные потуги. Конец цитаты.
Кстати, в редакцию «Веселых отрядов» его пристроила племянница Разумовича, работавшая там корректором. И все годы учебы в институте Илья исправно отсидел в отделе писем, среди синих и красных карточек, на которых требовалось записывать адрес и имя корреспондента. Поначалу его удручала возня с бесконечными конвертами, тем более что каждого новенького подвергали своеобразной дедовщине, исподтишка наблюдая, как бедняга облизывает уголок, прежде чем заклеить конверт. Один, другой конверт, десятый… и вот уже омерзительный вкус клея во рту, шершавый язык одеревенел и еле шевелится. И тогда насмешники разъясняли с невинными лицами, что существуют кисточка или губка да стакан с водой, а конверты можно выложить елочкой – вот так, чтоб уголки с клеем один под другим: мазнул сразу все – и заклеил.
* * *
В один из августовских вечеров, что разливают в воздухе странное желтоватое свечение, Илья с завернутым в кулек увесистым куском саномяна – рассольного острого сыра, похожего на брынзу, – вышел из центрального павильона Зеленого базара на улицу Горького. На ходу развернув бумагу и жадно отхватывая зубами ломти сыра прямо из кулька, он чуть не столкнулся с каким-то стариком – тот стоял у него на дороге с птичьей клеткой в руке. Илья чертыхнулся, извинился, притормозил. Вообще-то старики с клетками околачивались на Тастаке – был там птичий рынок. Но этот, видимо, где-то неподалеку жил, а до Тастака добираться сил уже не хватило: совсем изношенный старичок, в одной руке клетка, другая, паркинсоновая – с самодельной, приплясывающей палкой.
Но дело не в этом; чем-то его старик зацепил, напомнил что-то смутное, давно забытое: какую-то мальву у заборов, заливистую брехню дворняжек, звяканье ведер вокруг уличной колонки…
А тот, приметив, как Илья замедлил шаг и внезапно остановился, крикнул неожиданно громким петушиным говорком:
– Молодой человек! Купите кенаря, не пожалеете! Старинный народный промысел, благородный овсянистый напев, замечательная раскладистость! Купите, ей-богу! Дом, где птицы поют, никакого сглазу не боится!
И вдохновленный тем, что юноша не уходит, а все стоит, неподвижно уставясь на клетку в руке продавца, наддал дребезжащего голосу:
– Этот кенарь – не просто певец, а большой артист! Знаменитая желтая линия. Потомство легендарного Желтухина!
– Желтухина?! – Илья рванул к нему так, что сыр вывалился из кулька и шмякнулся под ноги. Но ему не до сыра было: неужели перед ним старичок Морковный?! Неужели дотянул до нынешних времен?! Да сколько ж ему теперь?! Фу-ты, забыл имя-отчество… – Вы… простите, вы – Морковный? – Илья почему-то страшно разволновался и растрогался. Словно перед его глазами возник сам Зверолов, пусть даже тень его. – Вы меня, конечно, не помните. Я – внучатый племянник Николая Константиновича Каблукова. Мы приходили к вам, и вы… гренки жарили… и квас был еще, очень вкусный!
– Что ж – гренки, – ничуть не смутившись, ни на мгновение не запнувшись, отозвался старик Морковный. – Я б тебе, сынок, и сейчас гренки замастырил хоть куда… кабы яичек штуки три-четыре, а?
Минут через двадцать они уже ехали в такси к старику Морковному в Татарку, все той же заблудистой сетью улочек, мимо заборов, полоненных неряшливой розовой и белой мальвой. В одной руке Илья держал клетку с наследником Желтухина Второго, а в другой, так же осторожно – бумажный пакет с десятком яиц.
И точно в детство вернулся: старик Морковный, Федор Григорьич, так и жил у тех же хозяев, в своей большой странной комнате в полуподвале.
– Исповедальню видишь? Просто шкаф, да? Во-о-от. А у меня она вся в лиловом мерцании… Окно видишь? Окно и окно, да? А у меня все оно сиянием охвачено, вроде северного: острые лучики – от белого до сиреневого.
Почему все оборвалось так нелепо и грустно; почему еще бодрый могучий старик ушел помирать (в коммуналку ушел, к своей скучной учительнице, которая как раз уехала на два месяца к сестре в Семипалатинск, да и вся коммуналка, все три комнаты – как только в пьесах бывает, чтобы сюжет сладился, – разъехалась на каникулы. Так и лежал там один до самого конца), для Ильи долго оставалось загадкой, как и загадочная бабушкина фраза о легкой его голове.
Бабушка всем объясняла, что Зверолов боялся ослепнуть и стать беспомощным, в тягость родным.
Чепуха! Ее обычная лакировочная версия.
Как он замучивал себя? – пытался представить Илюша. Представлять было трудно, совсем невозможно: ведь напоследок Зверолов все равно должен был видеть свою нежную радугу, очарованным странником уйти, с легкой головой, в ореоле ее острых бело-сиреневых лучей…
Вот, собственно, и все – о нем. Осталось только добавить, что тахта, на которой он спал, называлась «рыдван»; чемодан, что под ней хранился, – «рундук». А еще по всему дому валялись химические карандаши – с Гражданской их полюбил, уверял, что писать удобно.
Илья впоследствии долго натыкался на эти карандаши по разным углам, разок подобрал и сам пристрастился; правда, удобно: послюнил грифель, и вот, пожалте, – «не вырубишь топором».
* * *
В рундуке под «рыдваном» оказались: плащ из бычьей кожи времен Гражданской войны; кальсоны, рубашка, очки; зеленое, легчайшее верблюжье одеяло; справочники «Гладиолусы» и «Русская канарейка»; неказистая белая монета царской чеканки: на одной стороне – затертый двуглавый орел, на обратной – буквы: «3 рубли на серебро 1828 Спб»; и папка с документами.
В папке хранились мандат двадцатых годов на ношение огнестрельного оружия за подписью какого-то Якова Михайлова, телеграмма с просьбой о поставке лягушек для Ташкентского зоопарка, записки людей, безуспешно искавших его между Ташкентом и Алма-Атой, и старая коричневатая, с обломанными уголками карточка (понизу выведено славянской вязью: «Придворная фотография Я. Тираспольский и А. Горнштейн, г. Одесса»), на которой манерная, знойного облика девица губами тянулась к кенарю на жердочке.
Плащ был Илюше и раньше знаком – огромный, тяжелый, из толстой бычьей кожи, он мог стоять на полу сам, без человека внутри. От него довольно приятно пахло: кожей и чуть-чуть касторкой – смазывали на лето, чтобы не растрескался. В раннем детстве Илюша играл в нем, как в шалаше. Так что плащ был давним знакомцем – помнится, летом они с бабушкой сообща выносили его во двор (весил он килограммов семь-восемь), переваливали через веревку и караулили, по очереди сидя посреди двора на старом венском стуле, из-за треснутого сиденья изгнанном из парадных стульев столового ранжиру.
Да, плащ был выдающийся, и кроя отменного. Илья потом видел похожий на Жеглове из места встречи, которое нельзя изменить: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник, застегивающийся под горло, – тогда остается еще воротник маленький. Длинный черный плащ, даже Зверолову длинный: до середины икры.
Якобы тянулся за ним романтический шлейф: бабушка говорила, что в этом плаще Зверолов ночевал зимой под окнами какой-то одесской балерины. Ну, ночевал или не ночевал, балерины или кого там еще, а только плащ бабушка отдала Абдурашитову. Под зеленым легчайшим верблюжьим одеялом (полезная вещь!) много лет потом спал сам Илья, а позже – его единственная, обожаемая драгоценная дочь, которая… Нет! Рановато о ней.
Сначала о канарейках.
Само собой, ухаживать за всем этим птичьим населением стало некому. Пригласили старика Морковного с Татарки, и тот за бесценок – да у бабушки и сил не было торговаться – забрал всех птиц, в том числе и Желтухина Второго. А главное, забрал исповедальню. Вот чего Илья долго не мог бабушке простить: она всегда мечтала избавиться от «этого саркофага». Хотя, если подумать, не лишать же такого выдающегося артиста, такого, по словам Зверолова, «страстного маэстро», как Желтухин Второй, его законного жилища.
Сделка свершилась, когда мальчик был в школе. Вернувшись, он застал странно пустую, странно облезлую и, главное, странно безмолвную комнату. «Опустел наш сад, вас давно уж нет…» Вот теперь Разумович мог играть на своей проклятой флейте до потери сознания.
Это потрясло Илюшу сильнее, чем сама смерть Зверолова, чем похороны, чем плывущая в гробу на плечах незнакомых и хмурых мужчин его легкая голова – голова человека, что вдруг захотел умереть и потому не страдал.
Весь вечер Илюша проплакал, словно лишь теперь понял, что Зверолов не вернется никогда. А может, в этом бесптичье и безмолвии его сердце подспудно прозрело образ иного безмолвия – того, что много лет спустя обрушится на любимое существо?..
5
К девятому этажу бетонно-стеклянной башни, населенной редакциями чуть ли не всех казахстанских газет и журналов, сладкими волнами поднимались одуряющие запахи из соседней кондитерской фабрики. Ароматы ванили, патоки, цукатов, горячего темного шоколада под конец дня становились невыносимы, а с голодухи даже тошнотворны – тем более что с утра просыпался Зеленый базар напротив, раскочегаривал свои тандыры, раздувал угли для шашлыков, насаживал кусочки баранины на палочки и выкладывал их рядком на мангалы.
Опрятные кореянки выставляли на прилавки миски со своими остро-пахучими салатами и закусками, всеми этими пряными морковками, капустами, грибами, требухой, фунчозой, рыбным и мясным хе…
Сухие терпкие струи запахов – перец, куркума, кинза, зира, барбарис – витали над мисками и горками разноцветных специй, и вся эта благоуханная отрава, смешавшись за день с приторным духом кондитерского рая, под вечер способна была довести голодного человека до обморока.
В редакции время от времени появлялся Ванильный Дед – старый казах с покалеченным лицом: правая половина была окаменелой и какой-то рубчато-вельветовой; левая беспрестанно дергалась, будто он не переставал ухмыляться миру и людям. Ванильный Дед приносил ворованную на кондитерской фабрике ваниль, расфасованную в пробирки, заткнутые пробкой из жеваной газеты. Редакционные бабы дожидались его появления с каким-то исступленным хозяйственным вожделением (ходил он по одному ему известному графику), гоняясь за ним по всем этажам здания, словно его товаром был не этот кондитерский вздор, а какое-нибудь спасительное заграничное лекарство для безнадежного больного.
– Ванильный Дед не появлялся? – влетая в комнату, спрашивала запыхавшаяся машинистка Люба.
Ей отвечала корректор Александра Трофимовна:
– Бегите на третий, Люба. Должен быть там, если не ушел.
Илья терпеть не мог эту советскую стеклянную девятиэтажку, студеную зимой и нестерпимо душную летом. На всю редакцию республиканской пионерской газеты «Веселые отряды» был один бестолковый кондиционер, работавший в каком-то своем творческом режиме.
Выросший на земле, в апортовых садах, Илья высоту ненавидел и втайне ее боялся. А в здании даже лестницы были мерзкими: ступени – просто бетонные плиты на опорах, сквозь них – пустота. Он предпочитал спускаться в лифте, но за годы студенчества пережил тут несколько землетрясений, однажды надолго застряв в темной и душной кабине; и пока, упершись лбом в фанерованную стенку, обреченно ожидал вызволения, думал почему-то о Желтухине Втором, который всю жизнь провел вот в такой кромешной тьме ради редких минут ликующего пения.
С тех пор твердо решил спускаться на своих двоих, стараясь, однако, не слишком заглядывать под ноги.
После работы Илья выскакивал из здания редакций и бежал на Зеленый базар: купить в забегаловке поджаристую кунжутную лепешку, острый домашний сыр с тмином и базиликом или запихнуть за щеку соленый курт – поскорей заесть першащую в горле кондитерскую сладость…
Уже в то студенческое время он начал лысеть – поразительно рано. Но высокий рост, обаятельная легкая сутулость и немного рассеянные, ироничные темно-карие глаза вполне обеспечивали ему внимание женщин, тем более что бабушкино «хорошее воспитание», столь досаждавшее ему в детстве и вконец осточертевшее в юности, как выяснилось, в любой компании выгодно его отличало.
Впрочем, его карьера покорителя женских сердец (три очень разных блиц-романа на первом же курсе; особенно приставучая благосклонность секретарши ректора Сони Сопрыкиной) оборвалась в тот воскресный день на Медео, когда он увидел Гулю – заметил ее на огромном слепящем катке: в этом своем синем платье, с широченной юбкой, вихрящейся вокруг невероятно тонкой талии. Сидя на деревянной лавочке, он надевал коньки. И когда поднялся на ноги, чтобы выйти на лед, увидел впереди стремительное кружение синей юлы. Вмиг это напомнило ему облачно-журавлиное кружение далекого весеннего дня, и, возможно, поэтому Илью даже издали поразило сходство ее разгоряченного под горным весенним солнцем лица с почти забытым лицом Земфиры.
Он решительно подъехал и заговорил, мысленно благословляя свой какой-никакой галантерейный мужской опыт, а иначе не решился бы ни за что.
И после, счастливый, ошеломленный тем, что получилось, на очень легких после коньков ногах повел угощать ее шашлыком – много их, шашлычников, стояло вдоль дороги: пряный синий дымок в холодном воздухе. И ели они стоя, жадно стаскивая зубами с палочек кусочки вкуснейшей баранины. Под мостом среди снега, льда и камней стеклянно бренчала речка. Футляр со скрипкой (после катка Гюзаль должна была ехать на репетицию) он неудобно и осторожно держал под мышкой, боясь уронить и время от времени делая вид, что роняет, – тогда она округляла в испуге длинные сердоликовые глаза под высокими ласточкиными бровями.
Это было время его короткого и вялого мятежа против бабушки: борясь за свою хотя бы номинальную самостоятельность и взрослость, он не брал у нее денег, не сообщал, когда придет домой, а однажды, не предупредив, остался ночевать у сокурсника, о чем потом сильно сожалел: вернувшись, застал ее в состоянии невменяемом: исступленные глаза блестели окаменелым горем, руки тряслись, а Разумович, оказывается, за ночь успел обегать все больницы и морги.
– Да что, что со мной может случиться?! – кричал Илья.
– Прекратите третировать бедную старуху! – сквозь зубы сказал ему Разумович, и оттого, что тот, знавший Илью с младенчества, вдруг обратился к нему на «вы», а бабушку назвал «старухой», Илья замешкался, криво ухмыльнулся, собираясь с ответом, но уже в следующую минуту понял, что проиграл, и мысленно махнул рукой на свои революционные потуги. Конец цитаты.
Кстати, в редакцию «Веселых отрядов» его пристроила племянница Разумовича, работавшая там корректором. И все годы учебы в институте Илья исправно отсидел в отделе писем, среди синих и красных карточек, на которых требовалось записывать адрес и имя корреспондента. Поначалу его удручала возня с бесконечными конвертами, тем более что каждого новенького подвергали своеобразной дедовщине, исподтишка наблюдая, как бедняга облизывает уголок, прежде чем заклеить конверт. Один, другой конверт, десятый… и вот уже омерзительный вкус клея во рту, шершавый язык одеревенел и еле шевелится. И тогда насмешники разъясняли с невинными лицами, что существуют кисточка или губка да стакан с водой, а конверты можно выложить елочкой – вот так, чтоб уголки с клеем один под другим: мазнул сразу все – и заклеил.
* * *
В один из августовских вечеров, что разливают в воздухе странное желтоватое свечение, Илья с завернутым в кулек увесистым куском саномяна – рассольного острого сыра, похожего на брынзу, – вышел из центрального павильона Зеленого базара на улицу Горького. На ходу развернув бумагу и жадно отхватывая зубами ломти сыра прямо из кулька, он чуть не столкнулся с каким-то стариком – тот стоял у него на дороге с птичьей клеткой в руке. Илья чертыхнулся, извинился, притормозил. Вообще-то старики с клетками околачивались на Тастаке – был там птичий рынок. Но этот, видимо, где-то неподалеку жил, а до Тастака добираться сил уже не хватило: совсем изношенный старичок, в одной руке клетка, другая, паркинсоновая – с самодельной, приплясывающей палкой.
Но дело не в этом; чем-то его старик зацепил, напомнил что-то смутное, давно забытое: какую-то мальву у заборов, заливистую брехню дворняжек, звяканье ведер вокруг уличной колонки…
А тот, приметив, как Илья замедлил шаг и внезапно остановился, крикнул неожиданно громким петушиным говорком:
– Молодой человек! Купите кенаря, не пожалеете! Старинный народный промысел, благородный овсянистый напев, замечательная раскладистость! Купите, ей-богу! Дом, где птицы поют, никакого сглазу не боится!
И вдохновленный тем, что юноша не уходит, а все стоит, неподвижно уставясь на клетку в руке продавца, наддал дребезжащего голосу:
– Этот кенарь – не просто певец, а большой артист! Знаменитая желтая линия. Потомство легендарного Желтухина!
– Желтухина?! – Илья рванул к нему так, что сыр вывалился из кулька и шмякнулся под ноги. Но ему не до сыра было: неужели перед ним старичок Морковный?! Неужели дотянул до нынешних времен?! Да сколько ж ему теперь?! Фу-ты, забыл имя-отчество… – Вы… простите, вы – Морковный? – Илья почему-то страшно разволновался и растрогался. Словно перед его глазами возник сам Зверолов, пусть даже тень его. – Вы меня, конечно, не помните. Я – внучатый племянник Николая Константиновича Каблукова. Мы приходили к вам, и вы… гренки жарили… и квас был еще, очень вкусный!
– Что ж – гренки, – ничуть не смутившись, ни на мгновение не запнувшись, отозвался старик Морковный. – Я б тебе, сынок, и сейчас гренки замастырил хоть куда… кабы яичек штуки три-четыре, а?
Минут через двадцать они уже ехали в такси к старику Морковному в Татарку, все той же заблудистой сетью улочек, мимо заборов, полоненных неряшливой розовой и белой мальвой. В одной руке Илья держал клетку с наследником Желтухина Второго, а в другой, так же осторожно – бумажный пакет с десятком яиц.
И точно в детство вернулся: старик Морковный, Федор Григорьич, так и жил у тех же хозяев, в своей большой странной комнате в полуподвале.