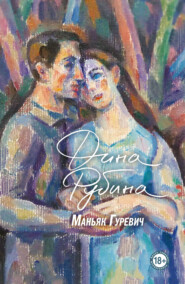По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская канарейка. Желтухин
Автор
Серия
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По вечерам весь двор, засаженный каштанами, катальпой и итальянской сиренью, слышал из окон квартиры в бельэтаже трубный рев Большого Этингера:
– Вступай на «раз и два и»! Не тяни! Это ж уму нерастяжимо! Виолончель в твоих руках – как музыкальный гроб, шарманка надоедливая! Ну, вступил же, тупица!.. – И далее – мерный стук трости об пол и одиночные вопли Яши, пронзительным дискантом протестующего против музыкального насилия.
* * *
Но, между прочим, недурной вышел ансамбль – «Дуэт-Этингер»: что ни говорите – отцовы гены, отцова выучка, да и музыкальные связи отцовы…
Спустя пять лет упорных занятий на первом концерте в Зале благородного собрания, что по Дворянской улице (помещенье пусть небольшое, заметил Гаврила Оскарович, однако публика порядочная, все университетские люди), дети виртуозно исполнили довольно сложную программу – Третью, ля-мажорную сонату Бетховена для виолончели и фортепиано и виолончельную сонату Рахманинова, – заслужив аплодисменты искушенных ценителей. Сам трогательный вид этой артистической пары вызывал улыбку: долговязый Яша с долговязой виолончелью и малютка, едва достающая до педалей рояля фирмы «Братья Дидерихс»; улыбка, впрочем, при первых же звуках музыки сменилась уважительным и восхищенным вниманием.
Еще через год дети Гаврилы Оскаровича с успехом концертировали в разных залах Одессы: в Императорском музыкальном обществе, в Русском театре, в Городской народной аудитории. Уже шли переговоры Большого Этингера о летнем ангажементе в Москве и Санкт-Петербурге, уже Полина Эрнестовна сшила для Эськи настоящую концертную юбку со стеклярусом по подолу, а приметанный Яшин фрак ждал последней примерки у мужского портного. Уже отец прикидывал, каким шрифтом набирать на афише имена и какие давать фотографии – когда приключилась эта беда.
Никто из тех, кто знавал семейную жизнь Этингеров накоротке, кто хаживал к ним на обеды или заглядывал на чай, кто неделями гостил у них на даче, едва замечая тощего и очень застенчивого подростка-гимназиста, – никто не мог бы вообразить, что произойдет с этим юношей в самом скором времени.
А Яша переменился внезапно, необъяснимо и необратимо. В Одессе про такое говорили «з глузду зъихав». Мальчик стал совершенно несносен: грубил матери, на кухне перед Стешей нес, размахивая длинными руками, пылкую ахинею о каком-то «всеобщем равноправии свободных личностей» и, случалось, исчезал бог весть куда на целый вечер, манкируя репетицией. Причем с ним исчезал и футляр от виолончели, в то время как сама виолончель оставалась дома, точно брошенная кокотка, стыдливо приклонив к обоям роскошное итальянское бедро.
– Кого?! – кричал Гаврила Оскарович, воздевая руки и всеми десятью артистичными пальцами вцепляясь в каштановый, с седой прядкой кок надо лбом. – Кого он в нем перетаскивает?! Падших женщин?!
Между прочим, это замечание не лишено было некоторых жизненных оснований: окна спален просторной шестикомнатной квартиры Этингеров выходили в большой замкнутый двор, куда одновременно были обращены окна самого респектабельного борделя Одессы, так что музыкальный «Дуэт-Этингер» репетировал под ежевечерние возгласы: «Девочки, в залу!»
Всех «девочек» юные музыканты знали в лицо, а встречая во дворе, вежливо раскланивались: при свете дня и без густого слоя пудры и помады внешность многих «девочек» требовала уважения к летам. С утра они обычно отдыхали, а к вечеру тяжелые малиновые шторы волновал бархатный свет ламп; там двигались томительные тени, развязно и фальшиво бренчало фортепьяно, а из отворенных форточек разносилось по двору:
В Одессу морем я плыла на пароходе раз…
Или:
Меня мужчины очень лю-у-убят,
Забыла я победам счет,
Меня ласкают и голу-у-бят,
В блаженстве жизнь моя течет…
Заблуждению по поводу Яшиных отлучек поддалась даже Дора, женщина недоверчивая и истеричная.
– Яша! – кричала она. – Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинуть на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «Мама, я жив!»
Ее рыдающему голосу вторил игривый и наглый голосок из-за малиновых штор напротив:
Все мужчины меня знают,
в кабинеты приглашают,
мне фигу-у-у-ра позволяет…
Шик, блеск, имер-элеган
На пустой карман!
Увы, какой там бордель! Яшу захватила совсем иная страсть, та, что в его боевых кухонных филиппиках перед оцепенелой в немом восторге Стешей именовалась «жаждой социальной справедливости» – во имя которой, твердил он явно с чьего-то чужого и лихого голоса, «в первую голову трэба устроить бучу повеселее».
Наконец, однажды ввечеру на квартиру Этингеров – в крылатке, в дворянской фуражке с красным околышем, «лично и между нами-с» – наведался пристав Тимофей Семенович Жарков, культурнейший человек, большой любитель оперы и почитатель Гаврилы Оскаровича, да и сам бас-профундо в церковном хоре. И тут неприглядная и отнюдь не музыкальная правда о похождениях виолончельного футляра грянула зловещей темой рока, знаменитыми фанфарами из Четвертой симфонии Чайковского.
Яша, как выяснилось, перетаскивал в футляре какие-то гнусно отпечатанные босяцкие брошюры возмутительного анархистского содержания. «Их и в руки-то брезгуешь взять! Полюбуйтесь: от сего манускрипта пальцы все черные!» И противу должности и убеждений, исключительно из душевной и музыкальной расположенности к Гавриле Оскаровичу – столь почтенное, ко всему прочему, семейство, и такой-то срам, чтоб одаренный юноша, виолончелист, многообещающий, так сказать, талант, прибился к босо?те и швали! К налетчикам! Ведь в этой бандитской шайке известные подонки: тот же Яшка Блюмкин, и Мишка Японец, и какой еще только мрази там нет!
– Вообразите, на Молдаванке, на Виноградной, у них школа щипачей, где эту голоту, шпану малолетнюю, на манекенах обучают!
– На… на манекенах?
– Так точно! Манекены с колокольчиками по карманам. Исхитрился вытащить портмоне, не зазвенев, – получи от «учителя» высший балл! Или по шее, коли не успел. Вот откуда себе вербуют хевру эти молодчики-анархисты. Вот с каким отребьем связался ваш Яшенька, дорогой Гаврила Оскарович…
Словом, пристав Тимофей Семенович настоятельно рекомендовал как можно скорее и скрытнее ото всех Яшиных дружков спровадить юнца куда-нибудь подале, к родне, под замок. И молчок. Так как на анархистов имеется предписание, а служебный долг – он, сами понимаете, голубчик Гаврила Оскарович…
Тимофей-то Семенович был, разумеется, встречен как родной, усажен в кабинете в удобное кресло (еще папаши-кантониста приобретение), ублажен коньячком и контрабандной сигарой и заверен наитвердейшим образом в том, что…
Последний солнечный луч из-за портьеры угасал в его правой платиновой бакенбарде, сплетаясь с сигарным дымом и чеканя печатку перстня на среднем пальце правой руки (левая была изуродована еще в октябре пятого года, когда анархисты «безмотивного террора» взорвали кофейню Либмана на Преображенской).
Гаврила Оскарович сам проводил пристава, минут пять еще что-то горячо обсуждал с ним вполголоса в полутьме прихожей, а когда за Тимофеем Семеновичем закрылась дверь, вернулся в залу с перекошенным лицом и впервые в жизни организовал выдающийся семейный скандал, потрясший Дом Этингера до основания.
И дело не в том, что в ход были пущены некоторые, много лет хранившиеся под спудом, неизвестные детям и Доре крепкие выражения его покойного отца, николаевского солдата Никиты Михайлова. Дело не в том, что впервые в жизни Яша получил по физиономии отцовой рукой опытного оркестранта, и новому ощущению нельзя было отказать в известной свежести. Дело не в том, наконец, что Дора была названа «безмозглой коровой», а Эська зачем-то заперта в своей комнате до выяснения ее осведомленности о безобразиях брата.
Яше велено было собраться и наутро быть готовым к отъезду в Овидиополь, к двоюродному брату матери, на неизвестный срок. Гаврила Оскарович собственноручно запер до утра все двери и даже окна:
– Ты у меня узнаешь, паскудник, как декларации провозглашать! Манекены?! Колокольчики?! Освободительная чушь?! Ты у меня услышишь колокольчики в Овидиополе!
Не все, как выяснилось, не все замки запер. И той же ночью, не дожидаясь ни допроса в полицейском участке, ни бессрочного прозябания у дяди в пыльном захолустье, Яша – ни пуха, ни праха! – бесшумно удалился через окно кухни (и надо еще разобраться, вставляла Дора, какую роль в том сыграла Стешка!), из денег прихватив только семейную реликвию – «белый червонец», редкую монету из платины (хотя выбито на ней почему-то было «3 рубли на серебро 1828 Спб»), подаренную все тем же николаевским солдатом сынку Герцэле на бар-мицву.
В своем последнем «прости», бессвязном и бредовом, нацарапанном карандашом на листке из гимназического календаря «Товарищъ», Яша объяснял свой поступок «освободительными целями и нуждами “Вольной коммуны”», а также писал о «горящем сердце Данко» (вероятно, какого-нибудь босяка-цыгана с Пересыпи), что «рассек себе грудь и вырванным сердцем озарил людям тьму!».
Словом, «шик-блеск, имер-элеган на пустой карман».
Взбешенный Гаврила Оскарович смял и выбросил жалкий листок в корзину для бумаг. А зря: никогда вы не знаете наверняка, в какие моменты судьбы пригождаются нелепые излияния вашего непутевого сына.
Хорошо, Стеша потихоньку вытянула из корзины и расправила листок, поставив на него холодный чугунный утюг у себя на антресоли. Ведь там на обороте Яшиной рукой был неосторожно записан дивный стих (вообще-то Константина Бальмонта, но Яша на этом не настаивал), относительно коего у Стеши имелись некоторые основания для ночных вздохов и сладкого сердцебиения:
Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..
И далее в столь же неукротимом духе, аккуратно и до конца переписанное стихотворение, как ящерица хвост сбросившее подпись автора. Но ведь не это главное – тем более что Яша счел нужным сей шедевр усыновить, а псевдонимом взять солдатское имя деда: Михайлов.
Возможно ль такое, чтобы недалекая Стеша осознала необходимость сохранить пустобрехий листок, который через каких-нибудь пять-шесть лет послужит семье охранной грамотой в кровавой кутерьме бандитских налетов, в кипящей воронке революции и Гражданской войны?
А ведь и правда: спустя всего несколько лет охотников поживиться имуществом «буржуев» Этингеров встречала на пороге рослая Стеша с льняной косой вкруг головы и, подбоченившись, выставив перед собой пресловутый листок с уже известной фамилией, зычным, шершавым, не своим голосом покрикивала: «А ну, кто тут посмелей – грабануть дом Якова Михайлова?»
Но до всего этого еще предстояло дожить, а пока многообещающий «Дуэт-Этингер» распался.
В доме воцарилась угрюмая тишина, в которой тягучие, взахлеб, рыдания Доры (Яша был ее любимцем) причудливо вторили разбитному треньканью и вечерним призывам «девочки, в залу!», кружили по двору над деревянной галереей, над цистерной для дождевой воды, гулко аукались под низкой сводчатой подворотней и сквозь вензеля чугунной решетки ворот уносились прочь – на улицу, чтоб безнадежно угасать там, в кроне старой акации.
2
«Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-жиу-вжик!» – сумасшедшие хрущи прошивали воздух вспышками бронзовых крыльев.
Уже заполнялись дачи Большого, Малого и Среднего Фонтанов, уже двинулись туда поездами парового трамвая (в народе прозванного «Ванька Головатый») и вагонами конки толпы гуляющих; уже в павильонах Куяльницкого и Хаджибейского лиманов приезжие и местные курортники погружали в «грязевыя и рапныя ванны» свои обширные зады, обтянутые полосатыми купальными костюмами.
– Вступай на «раз и два и»! Не тяни! Это ж уму нерастяжимо! Виолончель в твоих руках – как музыкальный гроб, шарманка надоедливая! Ну, вступил же, тупица!.. – И далее – мерный стук трости об пол и одиночные вопли Яши, пронзительным дискантом протестующего против музыкального насилия.
* * *
Но, между прочим, недурной вышел ансамбль – «Дуэт-Этингер»: что ни говорите – отцовы гены, отцова выучка, да и музыкальные связи отцовы…
Спустя пять лет упорных занятий на первом концерте в Зале благородного собрания, что по Дворянской улице (помещенье пусть небольшое, заметил Гаврила Оскарович, однако публика порядочная, все университетские люди), дети виртуозно исполнили довольно сложную программу – Третью, ля-мажорную сонату Бетховена для виолончели и фортепиано и виолончельную сонату Рахманинова, – заслужив аплодисменты искушенных ценителей. Сам трогательный вид этой артистической пары вызывал улыбку: долговязый Яша с долговязой виолончелью и малютка, едва достающая до педалей рояля фирмы «Братья Дидерихс»; улыбка, впрочем, при первых же звуках музыки сменилась уважительным и восхищенным вниманием.
Еще через год дети Гаврилы Оскаровича с успехом концертировали в разных залах Одессы: в Императорском музыкальном обществе, в Русском театре, в Городской народной аудитории. Уже шли переговоры Большого Этингера о летнем ангажементе в Москве и Санкт-Петербурге, уже Полина Эрнестовна сшила для Эськи настоящую концертную юбку со стеклярусом по подолу, а приметанный Яшин фрак ждал последней примерки у мужского портного. Уже отец прикидывал, каким шрифтом набирать на афише имена и какие давать фотографии – когда приключилась эта беда.
Никто из тех, кто знавал семейную жизнь Этингеров накоротке, кто хаживал к ним на обеды или заглядывал на чай, кто неделями гостил у них на даче, едва замечая тощего и очень застенчивого подростка-гимназиста, – никто не мог бы вообразить, что произойдет с этим юношей в самом скором времени.
А Яша переменился внезапно, необъяснимо и необратимо. В Одессе про такое говорили «з глузду зъихав». Мальчик стал совершенно несносен: грубил матери, на кухне перед Стешей нес, размахивая длинными руками, пылкую ахинею о каком-то «всеобщем равноправии свободных личностей» и, случалось, исчезал бог весть куда на целый вечер, манкируя репетицией. Причем с ним исчезал и футляр от виолончели, в то время как сама виолончель оставалась дома, точно брошенная кокотка, стыдливо приклонив к обоям роскошное итальянское бедро.
– Кого?! – кричал Гаврила Оскарович, воздевая руки и всеми десятью артистичными пальцами вцепляясь в каштановый, с седой прядкой кок надо лбом. – Кого он в нем перетаскивает?! Падших женщин?!
Между прочим, это замечание не лишено было некоторых жизненных оснований: окна спален просторной шестикомнатной квартиры Этингеров выходили в большой замкнутый двор, куда одновременно были обращены окна самого респектабельного борделя Одессы, так что музыкальный «Дуэт-Этингер» репетировал под ежевечерние возгласы: «Девочки, в залу!»
Всех «девочек» юные музыканты знали в лицо, а встречая во дворе, вежливо раскланивались: при свете дня и без густого слоя пудры и помады внешность многих «девочек» требовала уважения к летам. С утра они обычно отдыхали, а к вечеру тяжелые малиновые шторы волновал бархатный свет ламп; там двигались томительные тени, развязно и фальшиво бренчало фортепьяно, а из отворенных форточек разносилось по двору:
В Одессу морем я плыла на пароходе раз…
Или:
Меня мужчины очень лю-у-убят,
Забыла я победам счет,
Меня ласкают и голу-у-бят,
В блаженстве жизнь моя течет…
Заблуждению по поводу Яшиных отлучек поддалась даже Дора, женщина недоверчивая и истеричная.
– Яша! – кричала она. – Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинуть на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «Мама, я жив!»
Ее рыдающему голосу вторил игривый и наглый голосок из-за малиновых штор напротив:
Все мужчины меня знают,
в кабинеты приглашают,
мне фигу-у-у-ра позволяет…
Шик, блеск, имер-элеган
На пустой карман!
Увы, какой там бордель! Яшу захватила совсем иная страсть, та, что в его боевых кухонных филиппиках перед оцепенелой в немом восторге Стешей именовалась «жаждой социальной справедливости» – во имя которой, твердил он явно с чьего-то чужого и лихого голоса, «в первую голову трэба устроить бучу повеселее».
Наконец, однажды ввечеру на квартиру Этингеров – в крылатке, в дворянской фуражке с красным околышем, «лично и между нами-с» – наведался пристав Тимофей Семенович Жарков, культурнейший человек, большой любитель оперы и почитатель Гаврилы Оскаровича, да и сам бас-профундо в церковном хоре. И тут неприглядная и отнюдь не музыкальная правда о похождениях виолончельного футляра грянула зловещей темой рока, знаменитыми фанфарами из Четвертой симфонии Чайковского.
Яша, как выяснилось, перетаскивал в футляре какие-то гнусно отпечатанные босяцкие брошюры возмутительного анархистского содержания. «Их и в руки-то брезгуешь взять! Полюбуйтесь: от сего манускрипта пальцы все черные!» И противу должности и убеждений, исключительно из душевной и музыкальной расположенности к Гавриле Оскаровичу – столь почтенное, ко всему прочему, семейство, и такой-то срам, чтоб одаренный юноша, виолончелист, многообещающий, так сказать, талант, прибился к босо?те и швали! К налетчикам! Ведь в этой бандитской шайке известные подонки: тот же Яшка Блюмкин, и Мишка Японец, и какой еще только мрази там нет!
– Вообразите, на Молдаванке, на Виноградной, у них школа щипачей, где эту голоту, шпану малолетнюю, на манекенах обучают!
– На… на манекенах?
– Так точно! Манекены с колокольчиками по карманам. Исхитрился вытащить портмоне, не зазвенев, – получи от «учителя» высший балл! Или по шее, коли не успел. Вот откуда себе вербуют хевру эти молодчики-анархисты. Вот с каким отребьем связался ваш Яшенька, дорогой Гаврила Оскарович…
Словом, пристав Тимофей Семенович настоятельно рекомендовал как можно скорее и скрытнее ото всех Яшиных дружков спровадить юнца куда-нибудь подале, к родне, под замок. И молчок. Так как на анархистов имеется предписание, а служебный долг – он, сами понимаете, голубчик Гаврила Оскарович…
Тимофей-то Семенович был, разумеется, встречен как родной, усажен в кабинете в удобное кресло (еще папаши-кантониста приобретение), ублажен коньячком и контрабандной сигарой и заверен наитвердейшим образом в том, что…
Последний солнечный луч из-за портьеры угасал в его правой платиновой бакенбарде, сплетаясь с сигарным дымом и чеканя печатку перстня на среднем пальце правой руки (левая была изуродована еще в октябре пятого года, когда анархисты «безмотивного террора» взорвали кофейню Либмана на Преображенской).
Гаврила Оскарович сам проводил пристава, минут пять еще что-то горячо обсуждал с ним вполголоса в полутьме прихожей, а когда за Тимофеем Семеновичем закрылась дверь, вернулся в залу с перекошенным лицом и впервые в жизни организовал выдающийся семейный скандал, потрясший Дом Этингера до основания.
И дело не в том, что в ход были пущены некоторые, много лет хранившиеся под спудом, неизвестные детям и Доре крепкие выражения его покойного отца, николаевского солдата Никиты Михайлова. Дело не в том, что впервые в жизни Яша получил по физиономии отцовой рукой опытного оркестранта, и новому ощущению нельзя было отказать в известной свежести. Дело не в том, наконец, что Дора была названа «безмозглой коровой», а Эська зачем-то заперта в своей комнате до выяснения ее осведомленности о безобразиях брата.
Яше велено было собраться и наутро быть готовым к отъезду в Овидиополь, к двоюродному брату матери, на неизвестный срок. Гаврила Оскарович собственноручно запер до утра все двери и даже окна:
– Ты у меня узнаешь, паскудник, как декларации провозглашать! Манекены?! Колокольчики?! Освободительная чушь?! Ты у меня услышишь колокольчики в Овидиополе!
Не все, как выяснилось, не все замки запер. И той же ночью, не дожидаясь ни допроса в полицейском участке, ни бессрочного прозябания у дяди в пыльном захолустье, Яша – ни пуха, ни праха! – бесшумно удалился через окно кухни (и надо еще разобраться, вставляла Дора, какую роль в том сыграла Стешка!), из денег прихватив только семейную реликвию – «белый червонец», редкую монету из платины (хотя выбито на ней почему-то было «3 рубли на серебро 1828 Спб»), подаренную все тем же николаевским солдатом сынку Герцэле на бар-мицву.
В своем последнем «прости», бессвязном и бредовом, нацарапанном карандашом на листке из гимназического календаря «Товарищъ», Яша объяснял свой поступок «освободительными целями и нуждами “Вольной коммуны”», а также писал о «горящем сердце Данко» (вероятно, какого-нибудь босяка-цыгана с Пересыпи), что «рассек себе грудь и вырванным сердцем озарил людям тьму!».
Словом, «шик-блеск, имер-элеган на пустой карман».
Взбешенный Гаврила Оскарович смял и выбросил жалкий листок в корзину для бумаг. А зря: никогда вы не знаете наверняка, в какие моменты судьбы пригождаются нелепые излияния вашего непутевого сына.
Хорошо, Стеша потихоньку вытянула из корзины и расправила листок, поставив на него холодный чугунный утюг у себя на антресоли. Ведь там на обороте Яшиной рукой был неосторожно записан дивный стих (вообще-то Константина Бальмонта, но Яша на этом не настаивал), относительно коего у Стеши имелись некоторые основания для ночных вздохов и сладкого сердцебиения:
Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..
И далее в столь же неукротимом духе, аккуратно и до конца переписанное стихотворение, как ящерица хвост сбросившее подпись автора. Но ведь не это главное – тем более что Яша счел нужным сей шедевр усыновить, а псевдонимом взять солдатское имя деда: Михайлов.
Возможно ль такое, чтобы недалекая Стеша осознала необходимость сохранить пустобрехий листок, который через каких-нибудь пять-шесть лет послужит семье охранной грамотой в кровавой кутерьме бандитских налетов, в кипящей воронке революции и Гражданской войны?
А ведь и правда: спустя всего несколько лет охотников поживиться имуществом «буржуев» Этингеров встречала на пороге рослая Стеша с льняной косой вкруг головы и, подбоченившись, выставив перед собой пресловутый листок с уже известной фамилией, зычным, шершавым, не своим голосом покрикивала: «А ну, кто тут посмелей – грабануть дом Якова Михайлова?»
Но до всего этого еще предстояло дожить, а пока многообещающий «Дуэт-Этингер» распался.
В доме воцарилась угрюмая тишина, в которой тягучие, взахлеб, рыдания Доры (Яша был ее любимцем) причудливо вторили разбитному треньканью и вечерним призывам «девочки, в залу!», кружили по двору над деревянной галереей, над цистерной для дождевой воды, гулко аукались под низкой сводчатой подворотней и сквозь вензеля чугунной решетки ворот уносились прочь – на улицу, чтоб безнадежно угасать там, в кроне старой акации.
2
«Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-жиу-вжик!» – сумасшедшие хрущи прошивали воздух вспышками бронзовых крыльев.
Уже заполнялись дачи Большого, Малого и Среднего Фонтанов, уже двинулись туда поездами парового трамвая (в народе прозванного «Ванька Головатый») и вагонами конки толпы гуляющих; уже в павильонах Куяльницкого и Хаджибейского лиманов приезжие и местные курортники погружали в «грязевыя и рапныя ванны» свои обширные зады, обтянутые полосатыми купальными костюмами.