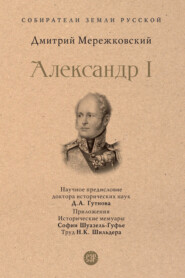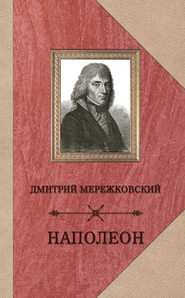По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Данте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Себя единого в Отце познавший,
Собой единым познанный лишь в Сыне,
Возлюбленный собой единым в Духе![2—3]
Все, чем Данте жил, и все, что сделал, заключено в этом одном, самом для нас непонятном, ненужном и холодном из человеческих слов, а для него – самом нужном, огненном и живом: Три.
«Нет, никогда не будет три одно!» – смеется – кощунствует Гёте (Разгов. с Эккерманом), и вместе с ним дух всего отступившего от Христа, человечества наших дней. И Мефистофель, готовя, вместе со старой ведьмой, эликсир вечной юности для Фауста, так же кощунствует – смеется:
Увы, мой друг, старо и ново,
Веками лжи освящено,
Всех одурачившее слово:
Один есть Три и Три – Одно[4].
Жив Данте или умер для нас? Может быть, на этот вопрос вовсе еще не ответ вся его в веках не меркнущая слава, потому что подлинное существо таких людей, как он, измеряется не славой – отражением бытия, слишком часто обманчивым, – а самим бытием. Чтобы узнать, жив ли Данте для нас, мы должны судить о нем не по нашей, а по его собственной мере. Высшая мера жизни для него – не созерцание, отражение бытия сущего, а действие, творение бытия нового. Этим он превосходит всех трех остальных, по силе созерцания равных ему художников слова: Гомера, Шекспира и Гёте. Данте не только отражает, как они, то, что есть, но и творит то, чего нет; не только созерцает, но и действует. В этом смысле высшей точки поэзии (в первом и вечном значении слова poiein: делать, действовать) достиг он один.
«Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осуществлять всю полноту созерцания, сначала для него самого, а потом для действия, prius ad speculandum, et secundum ad operandum[5]». Эту общую цель человечества Данте признает и для себя высшей мерою жизни и творчества: «Не созерцание, а действие есть цель всего творения („Комедии“) – вывести людей, в этой (земной) жизни, из несчастного состояния и привести их к состоянию блаженному. Ибо если в некоторых частях „Комедии“ и преобладает созерцание, то все же не ради него самого, а для действия»[6].
Главная цель Данте – не что-то сказать людям, а что-то сделать с людьми; изменить их души и судьбы мира. Вот по этой-то мере и надо судить Данте. Если прав Гёте, что Три – Одно есть ложь, то Данте мертв и мы его не воскресим, сколько бы ни славили.
Явный или тайный, сознательный или бессознательный суд огромного большинства людей нашего времени над Данте высказывает знаменитый итальянский «дантовед» (смешное и странное слово), философ и критик, Бенедетто Кроче: «Все религиозное содержание „Божественной комедии“ для нас уже мертво».Это и значит: Данте умер для нас; только в художественном творчестве, в созерцании, он вечно жив и велик, а в действии ничтожен. Это сказать о таком человеке, как Данте, все равно что сказать: «Душу свою вынь из тела, веру из поэзии, чтобы мы тебя приняли и прославили».
Все художественное творчество Данте, его созерцание, – великолепные, золотые с драгоценными каменьями, ножны; а в них простой стальной меч – действие. Тщательно хранятся и славятся ножны, презрен и выкинут меч.
«В эту самую минуту, когда я пишу о нем, мне кажется, что он смотрит на меня с высоты небес презрительным оком»[7], – говорит Боккачио[4. - В тексте романа сохранено авторское написание имен и географических названий. – Ред.], первый жизнеописатель Данте, верно почувствовав что-то несоизмеримое между тем, чем Данте кажется людям в славе своей, и тем, что он есть.
Семь веков люди хулят и хвалят – судят Данте; но, может быть, и он их судит судом более для них страшным, чем их – для него.
В том, что итальянцы хорошо называют «судьбою» Данте, fortuna, – громкая слава чередуется с глухим забвением. В XVI веке появляется лишь в трех изданиях «Видение Данте», «Visione di Dante», потому что самое имя «Комедии» забыто. «Слава его будет расти тем больше, чем меньше его читают», – злорадствует Вольтер в XVIII веке[8]. «Может быть, во всей Италии не найдется сейчас больше тридцати человек, действительно читавших „Божественную комедию“, – жалуется Альфиери в начале XIX века. Если бы теперь оказалось в Италии тридцать миллионов человек, читавших „Комедию“, живому Данте вряд ли от этого было бы легче.
О ты, душа... идущая на небо,
Из милости утешь меня, скажи,
Откуда ты идешь и кто ты? —
спрашивает одна из теней на Святой Горе Чистилища, и Данте отвечает:
Кто я такой, не стоит говорить:
Еще мое не громко имя в мире[9].
Имя Данте громко сейчас в мире, но кто он такой, все еще люди не знают, ибо горькая «судьба» его, fortuna, – забвение в славе.
Древние персы и мидяне, чтобы сохранить тела покойников от тления, погружали их в мед. Нечто подобное делают везде, но больше всего в Италии, слишком усердные поклонники Данте. «Наш божественнейший соотечественник» (как будто мало для похвалы кощунства – сравнить человека с Богом, – нужна еще превосходная степень): эта первая капля меда упала на Данте в XVI веке, а в XX он уже весь с головой – в меду похвал[10]. Бедный Данте! Самого горького и живого из всех поэтов люди сделали сладчайшим и мертвейшим из всех. Казни в аду за чужие грехи он, может быть, слишком хорошо умел изобретать; но если был горд и чересчур жаден к тому, что люди называют «славой» (был ли действительно так горд и так жаден к славе, как это кажется, – еще вопрос), то злейшей казни, чем эта, за свой собственный грех, не изобрел бы и он.
Те, кто, лет семь, по смерти Данте, хотел вырыть кости его из земли и сжечь за то, что он веровал будто бы не так, как учит Церковь, – лучше знали его и уважали больше, чем те, кто, через семь веков, славят его за истинную поэзию и презирают за ложную веру.
Люди наших дней, счастливые или несчастные, но одинаково, в обоих случаях, самоуверенные, никогда не сходившие и не подымавшиеся по склонам земли, ведущим вниз и вверх, в ад и в рай, не поймут Данте ни в жизни его, ни в творчестве. Им нечего с ним делать так же, как и ему с ними.
В самом деле, что испытал бы среднеобразованный, среднеумный, среднечувствующий человек наших дней, если бы, ничего не зная о славе Данте, вынужден был прочесть 14 000 стихов Комедии»? В лучшем случае – то же, что на слишком долгой панихидной службе по официально-дорогом покойнике; в худшем – убийственную, до вывиха челюстей зевающую скуку. Разве лишь несколько стихов о Франческе да Римини, о Фаринате и Уголино развлекло бы его, удивило, возмутило или озадачило своей необычайностью, несоизмеримостью со всем, что он, средний человек, думает и чувствует. Но это не помешало бы ему согласиться с Вольтером, что поэма эта – «нагромождение варварских нелепостей»[11], или с Ницше, что Данте – «поэтическая гиена в гробах»[12]. А тем немногим, кто понял бы все-таки, что Данте велик, это не помешало бы согласиться с Гёте, что «величие Данте отвратительно и часто ужасно»[13].
Судя по тому, что сейчас происходит в мире, главной цели своей – изменить души людей и судьбы мира – Данте не достиг: созерцатель без действия, Колумб без Америки, Лютер без Реформации, Карл Маркс без революции, он и после смерти такой же, как при жизни, вечный изгнанник, нищий, одинокий, отверженный и презренный всеми человек вне закона, трижды приговоренный к смерти: «Многие... презирали не только меня самого, но и все, что я сделал и мог бы еще сделать»[14]. Это презрение, быть может, тяготеет на нем, в посмертной славе его, еще убийственнее, чем при жизни, в бесславии.
И все-таки слава Данте не тщетна: кто еще не совсем уверен, что весь религиозный путь человечества ложен и пагубен, – смутно чувствует, что здесь, около Данте, одно из тех святых мест, о которых сказано: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая»[15]; смутно чувствует, что на этом месте зарыто такое сокровище, что если люди его найдут, то обогатятся нищие. Как бы Данте ни умирал для нас, что-то в нем будет живо, пока дух человеческий жив.
Если отступившее от Христа человечество идет по верному пути, Данте никогда не воскреснет; а если по неверному – то, кажется, день его воскресения сейчас ближе, чем когда-либо. В людях уже пробуждается чувство беспокойства; если еще смутное и слабое сейчас оно усилится, то люди поймут, что заблудились в том же «темном и диком лесу», в котором заблудился и Данте перед сошествием в ад:
Столь горек был тот лес, что смерть немногим горше[16].
Данте воскреснет, когда в людях возмутится и заговорит еще немая сейчас, или уже заглушенная, не личная, а общая совесть. Каждый человек в отдельности более или менее знает, что такое совесть. Но соединения людей – государства, общества, народы – этого не знают вовсе или не хотят знать; жизнь человечества – всемирная история, чем дальше, тем бессовестней. Малые злодеи казнятся, великие – венчаются по гнусному правилу, началу всех человеческих низостей: «победителей не судят». Рабское подчинение торжествующей силе, признание силы правом, – вот против чего возмущается «свирепейшим негодованием растерзанное сердце» Данте, saevissimo indignatione cor dilaceratum[17]. Нет такого земного величия и славы, где Дантово каленое железо не настигло бы и не выжгло бы на лбу злодея позорного клейма.
«Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются... Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы» (Пс. 81, 5—8). Это Данте сказал так, как никто не говорил после великих пророков Израиля.
Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? (Откр. 6, 9—10).
Этот, потрясающий небо, вопль повторяет Данте на земле:
О, Господи! Когда же наконец
Увижу я Твое святое мщенье,
Что делает нам сладостным Твой гнев?[18]
В голосе Данте слышится, немолчный в веках, голос человеческой совести, заговорившей, как никогда, после распятой на кресте Божественной Совести.
Я не могу сказать, как я туда зашел,
Так полон я был смутным сном в тот миг,
Когда я верный путь уже покинул[19], —
вспоминает Данте, как заблудился в темном диком лесу, ведущем в ад. Кажется иногда, что весь мир полон сейчас тем же смутным сном, – как бы умирает во сне, чтобы сойти в ад. Если суждено ему проснуться, то, может быть, в одном из первых, разбудивших его, голосов он узнает голос воскресшего Данте.
Верно угадал Пифагор: миром правит Число; музыка сфер есть божественная, в движении планет звучащая математика. К музыке сфер мы оглохли, но лучше Пифагора знаем, что правящие миром основные законы механики, физики, химии, а может быть, и биологии выражаются в математических символах-числах.
Символ войны – число Два. Два врага: два сословия, богатые и бедные, – в экономике; два народа, свой и чужой, – в политике; два начала, плоть и дух, – в этике; два мира, этот и тот, – в метафизике; два бога, человек и Бог, – в религии. Всюду два и между Двумя – война бесконечная. Чтобы окончилась война, нужно, чтобы Два соединились в Третьем: два класса – в народе, два народа – во всемирности, две этики – в святости, две религии, человеческая и божеская, – в Богочеловеческой. Всюду Два начала соединяются и примиряются в третьем так, что они уже Одно – в Трех, и Три – в Одном. Это и значит: математический символ мира – число Три. Если правящее миром число – Два, то мир есть то, что он сейчас: бесконечная война; а если – Три, то мир будет в конце тем, чем был сначала, – миром.
«Нет, никогда не будет Три – Одно», – возвещает миру, устами Гёте, дух отступившего от Христа человечества, и мир этому верит.
Ах, две души живут в моей груди!
Хочет одна от другой оторваться...
В грубом вожделенье, одна приникает к земле,
всеми трепетными членами жадно,
а другая рвется из пыли земной
к небесной отчизне[20], —
возвещает миру тот же дух, устами Гёте-Фауста. Хочет душа от души оторваться, и не может, и борется в смертном борении. Это не Божественная комедия Трех, а человеческая трагедия Двух. С Гёте-Фаустом, под знаком двух – числа войны, – движется сейчас весь мир: куда, – мы знаем, или могли бы знать по холодку, веющему нам уже прямо в лицо со дна пропасти. Первый человек, на дне ее побывавший и только чудом спасшийся, – Данте. То, что он там видел, он назвал словом, которое сегодня кажется нам смешным и сказочным, но завтра может оказаться страшно-действительным: Ад. Вся «Комедия» есть не что иное, как остерегающий крик заблудившимся в «темном и диком лесу», который ведет в Ад.
Это и есть цель всей жизни и творчества Данте: с гибельного пути, под знаком Двух, вернуть заблудившееся человечество на путь спасения, под знаком Трех. Вот почему сейчас, для мира, погибнуть или спастись – значит сделать выбор: Гёте или Данте; Два или Три. Только что люди это поймут – Данте воскреснет.
Найденные в пирамидах Древнего Египта семена пшеницы, положенные туда за пять тысяч лет, если их посеять, прорастают и зеленеют свежей зеленью. Сила жизни, скрытая в Данте, подобна такому пятитысячелетнему, пирамидному семени. «Три – одно есть начало всех чудес», и этого, величайшего из всех, – Вечной Любви, воскрешающей мертвых.
Спасти нас может вечная Любовь,
Пока росток надежды зеленеет...[21]
Собой единым познанный лишь в Сыне,
Возлюбленный собой единым в Духе![2—3]
Все, чем Данте жил, и все, что сделал, заключено в этом одном, самом для нас непонятном, ненужном и холодном из человеческих слов, а для него – самом нужном, огненном и живом: Три.
«Нет, никогда не будет три одно!» – смеется – кощунствует Гёте (Разгов. с Эккерманом), и вместе с ним дух всего отступившего от Христа, человечества наших дней. И Мефистофель, готовя, вместе со старой ведьмой, эликсир вечной юности для Фауста, так же кощунствует – смеется:
Увы, мой друг, старо и ново,
Веками лжи освящено,
Всех одурачившее слово:
Один есть Три и Три – Одно[4].
Жив Данте или умер для нас? Может быть, на этот вопрос вовсе еще не ответ вся его в веках не меркнущая слава, потому что подлинное существо таких людей, как он, измеряется не славой – отражением бытия, слишком часто обманчивым, – а самим бытием. Чтобы узнать, жив ли Данте для нас, мы должны судить о нем не по нашей, а по его собственной мере. Высшая мера жизни для него – не созерцание, отражение бытия сущего, а действие, творение бытия нового. Этим он превосходит всех трех остальных, по силе созерцания равных ему художников слова: Гомера, Шекспира и Гёте. Данте не только отражает, как они, то, что есть, но и творит то, чего нет; не только созерцает, но и действует. В этом смысле высшей точки поэзии (в первом и вечном значении слова poiein: делать, действовать) достиг он один.
«Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осуществлять всю полноту созерцания, сначала для него самого, а потом для действия, prius ad speculandum, et secundum ad operandum[5]». Эту общую цель человечества Данте признает и для себя высшей мерою жизни и творчества: «Не созерцание, а действие есть цель всего творения („Комедии“) – вывести людей, в этой (земной) жизни, из несчастного состояния и привести их к состоянию блаженному. Ибо если в некоторых частях „Комедии“ и преобладает созерцание, то все же не ради него самого, а для действия»[6].
Главная цель Данте – не что-то сказать людям, а что-то сделать с людьми; изменить их души и судьбы мира. Вот по этой-то мере и надо судить Данте. Если прав Гёте, что Три – Одно есть ложь, то Данте мертв и мы его не воскресим, сколько бы ни славили.
Явный или тайный, сознательный или бессознательный суд огромного большинства людей нашего времени над Данте высказывает знаменитый итальянский «дантовед» (смешное и странное слово), философ и критик, Бенедетто Кроче: «Все религиозное содержание „Божественной комедии“ для нас уже мертво».Это и значит: Данте умер для нас; только в художественном творчестве, в созерцании, он вечно жив и велик, а в действии ничтожен. Это сказать о таком человеке, как Данте, все равно что сказать: «Душу свою вынь из тела, веру из поэзии, чтобы мы тебя приняли и прославили».
Все художественное творчество Данте, его созерцание, – великолепные, золотые с драгоценными каменьями, ножны; а в них простой стальной меч – действие. Тщательно хранятся и славятся ножны, презрен и выкинут меч.
«В эту самую минуту, когда я пишу о нем, мне кажется, что он смотрит на меня с высоты небес презрительным оком»[7], – говорит Боккачио[4. - В тексте романа сохранено авторское написание имен и географических названий. – Ред.], первый жизнеописатель Данте, верно почувствовав что-то несоизмеримое между тем, чем Данте кажется людям в славе своей, и тем, что он есть.
Семь веков люди хулят и хвалят – судят Данте; но, может быть, и он их судит судом более для них страшным, чем их – для него.
В том, что итальянцы хорошо называют «судьбою» Данте, fortuna, – громкая слава чередуется с глухим забвением. В XVI веке появляется лишь в трех изданиях «Видение Данте», «Visione di Dante», потому что самое имя «Комедии» забыто. «Слава его будет расти тем больше, чем меньше его читают», – злорадствует Вольтер в XVIII веке[8]. «Может быть, во всей Италии не найдется сейчас больше тридцати человек, действительно читавших „Божественную комедию“, – жалуется Альфиери в начале XIX века. Если бы теперь оказалось в Италии тридцать миллионов человек, читавших „Комедию“, живому Данте вряд ли от этого было бы легче.
О ты, душа... идущая на небо,
Из милости утешь меня, скажи,
Откуда ты идешь и кто ты? —
спрашивает одна из теней на Святой Горе Чистилища, и Данте отвечает:
Кто я такой, не стоит говорить:
Еще мое не громко имя в мире[9].
Имя Данте громко сейчас в мире, но кто он такой, все еще люди не знают, ибо горькая «судьба» его, fortuna, – забвение в славе.
Древние персы и мидяне, чтобы сохранить тела покойников от тления, погружали их в мед. Нечто подобное делают везде, но больше всего в Италии, слишком усердные поклонники Данте. «Наш божественнейший соотечественник» (как будто мало для похвалы кощунства – сравнить человека с Богом, – нужна еще превосходная степень): эта первая капля меда упала на Данте в XVI веке, а в XX он уже весь с головой – в меду похвал[10]. Бедный Данте! Самого горького и живого из всех поэтов люди сделали сладчайшим и мертвейшим из всех. Казни в аду за чужие грехи он, может быть, слишком хорошо умел изобретать; но если был горд и чересчур жаден к тому, что люди называют «славой» (был ли действительно так горд и так жаден к славе, как это кажется, – еще вопрос), то злейшей казни, чем эта, за свой собственный грех, не изобрел бы и он.
Те, кто, лет семь, по смерти Данте, хотел вырыть кости его из земли и сжечь за то, что он веровал будто бы не так, как учит Церковь, – лучше знали его и уважали больше, чем те, кто, через семь веков, славят его за истинную поэзию и презирают за ложную веру.
Люди наших дней, счастливые или несчастные, но одинаково, в обоих случаях, самоуверенные, никогда не сходившие и не подымавшиеся по склонам земли, ведущим вниз и вверх, в ад и в рай, не поймут Данте ни в жизни его, ни в творчестве. Им нечего с ним делать так же, как и ему с ними.
В самом деле, что испытал бы среднеобразованный, среднеумный, среднечувствующий человек наших дней, если бы, ничего не зная о славе Данте, вынужден был прочесть 14 000 стихов Комедии»? В лучшем случае – то же, что на слишком долгой панихидной службе по официально-дорогом покойнике; в худшем – убийственную, до вывиха челюстей зевающую скуку. Разве лишь несколько стихов о Франческе да Римини, о Фаринате и Уголино развлекло бы его, удивило, возмутило или озадачило своей необычайностью, несоизмеримостью со всем, что он, средний человек, думает и чувствует. Но это не помешало бы ему согласиться с Вольтером, что поэма эта – «нагромождение варварских нелепостей»[11], или с Ницше, что Данте – «поэтическая гиена в гробах»[12]. А тем немногим, кто понял бы все-таки, что Данте велик, это не помешало бы согласиться с Гёте, что «величие Данте отвратительно и часто ужасно»[13].
Судя по тому, что сейчас происходит в мире, главной цели своей – изменить души людей и судьбы мира – Данте не достиг: созерцатель без действия, Колумб без Америки, Лютер без Реформации, Карл Маркс без революции, он и после смерти такой же, как при жизни, вечный изгнанник, нищий, одинокий, отверженный и презренный всеми человек вне закона, трижды приговоренный к смерти: «Многие... презирали не только меня самого, но и все, что я сделал и мог бы еще сделать»[14]. Это презрение, быть может, тяготеет на нем, в посмертной славе его, еще убийственнее, чем при жизни, в бесславии.
И все-таки слава Данте не тщетна: кто еще не совсем уверен, что весь религиозный путь человечества ложен и пагубен, – смутно чувствует, что здесь, около Данте, одно из тех святых мест, о которых сказано: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая»[15]; смутно чувствует, что на этом месте зарыто такое сокровище, что если люди его найдут, то обогатятся нищие. Как бы Данте ни умирал для нас, что-то в нем будет живо, пока дух человеческий жив.
Если отступившее от Христа человечество идет по верному пути, Данте никогда не воскреснет; а если по неверному – то, кажется, день его воскресения сейчас ближе, чем когда-либо. В людях уже пробуждается чувство беспокойства; если еще смутное и слабое сейчас оно усилится, то люди поймут, что заблудились в том же «темном и диком лесу», в котором заблудился и Данте перед сошествием в ад:
Столь горек был тот лес, что смерть немногим горше[16].
Данте воскреснет, когда в людях возмутится и заговорит еще немая сейчас, или уже заглушенная, не личная, а общая совесть. Каждый человек в отдельности более или менее знает, что такое совесть. Но соединения людей – государства, общества, народы – этого не знают вовсе или не хотят знать; жизнь человечества – всемирная история, чем дальше, тем бессовестней. Малые злодеи казнятся, великие – венчаются по гнусному правилу, началу всех человеческих низостей: «победителей не судят». Рабское подчинение торжествующей силе, признание силы правом, – вот против чего возмущается «свирепейшим негодованием растерзанное сердце» Данте, saevissimo indignatione cor dilaceratum[17]. Нет такого земного величия и славы, где Дантово каленое железо не настигло бы и не выжгло бы на лбу злодея позорного клейма.
«Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются... Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы» (Пс. 81, 5—8). Это Данте сказал так, как никто не говорил после великих пророков Израиля.
Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? (Откр. 6, 9—10).
Этот, потрясающий небо, вопль повторяет Данте на земле:
О, Господи! Когда же наконец
Увижу я Твое святое мщенье,
Что делает нам сладостным Твой гнев?[18]
В голосе Данте слышится, немолчный в веках, голос человеческой совести, заговорившей, как никогда, после распятой на кресте Божественной Совести.
Я не могу сказать, как я туда зашел,
Так полон я был смутным сном в тот миг,
Когда я верный путь уже покинул[19], —
вспоминает Данте, как заблудился в темном диком лесу, ведущем в ад. Кажется иногда, что весь мир полон сейчас тем же смутным сном, – как бы умирает во сне, чтобы сойти в ад. Если суждено ему проснуться, то, может быть, в одном из первых, разбудивших его, голосов он узнает голос воскресшего Данте.
Верно угадал Пифагор: миром правит Число; музыка сфер есть божественная, в движении планет звучащая математика. К музыке сфер мы оглохли, но лучше Пифагора знаем, что правящие миром основные законы механики, физики, химии, а может быть, и биологии выражаются в математических символах-числах.
Символ войны – число Два. Два врага: два сословия, богатые и бедные, – в экономике; два народа, свой и чужой, – в политике; два начала, плоть и дух, – в этике; два мира, этот и тот, – в метафизике; два бога, человек и Бог, – в религии. Всюду два и между Двумя – война бесконечная. Чтобы окончилась война, нужно, чтобы Два соединились в Третьем: два класса – в народе, два народа – во всемирности, две этики – в святости, две религии, человеческая и божеская, – в Богочеловеческой. Всюду Два начала соединяются и примиряются в третьем так, что они уже Одно – в Трех, и Три – в Одном. Это и значит: математический символ мира – число Три. Если правящее миром число – Два, то мир есть то, что он сейчас: бесконечная война; а если – Три, то мир будет в конце тем, чем был сначала, – миром.
«Нет, никогда не будет Три – Одно», – возвещает миру, устами Гёте, дух отступившего от Христа человечества, и мир этому верит.
Ах, две души живут в моей груди!
Хочет одна от другой оторваться...
В грубом вожделенье, одна приникает к земле,
всеми трепетными членами жадно,
а другая рвется из пыли земной
к небесной отчизне[20], —
возвещает миру тот же дух, устами Гёте-Фауста. Хочет душа от души оторваться, и не может, и борется в смертном борении. Это не Божественная комедия Трех, а человеческая трагедия Двух. С Гёте-Фаустом, под знаком двух – числа войны, – движется сейчас весь мир: куда, – мы знаем, или могли бы знать по холодку, веющему нам уже прямо в лицо со дна пропасти. Первый человек, на дне ее побывавший и только чудом спасшийся, – Данте. То, что он там видел, он назвал словом, которое сегодня кажется нам смешным и сказочным, но завтра может оказаться страшно-действительным: Ад. Вся «Комедия» есть не что иное, как остерегающий крик заблудившимся в «темном и диком лесу», который ведет в Ад.
Это и есть цель всей жизни и творчества Данте: с гибельного пути, под знаком Двух, вернуть заблудившееся человечество на путь спасения, под знаком Трех. Вот почему сейчас, для мира, погибнуть или спастись – значит сделать выбор: Гёте или Данте; Два или Три. Только что люди это поймут – Данте воскреснет.
Найденные в пирамидах Древнего Египта семена пшеницы, положенные туда за пять тысяч лет, если их посеять, прорастают и зеленеют свежей зеленью. Сила жизни, скрытая в Данте, подобна такому пятитысячелетнему, пирамидному семени. «Три – одно есть начало всех чудес», и этого, величайшего из всех, – Вечной Любви, воскрешающей мертвых.
Спасти нас может вечная Любовь,
Пока росток надежды зеленеет...[21]