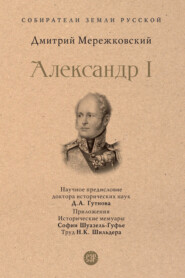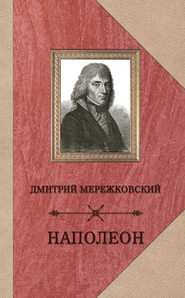По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Данте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прослыли мы в те дни, —
признается и сам Брунетто[20]. Что это значит, объяснит он, покаявшись на старости лет, когда и черт становится монахом:
И в Бога я не верил,
И церкви я не чтил,
Словами и делами
Я оскорблял ее[21].
Больше всего оскорблял тем пороком, о котором скажет Ариосто:
Мало есть ученых, в наши дни, без этого порока,
за который был вынужден Бог
опустошить Содом и Гоморру[22].
Слишком усердно подражал Брунетто великим образцам языческой древности; слишком нравились ему отроки с девической прелестью лиц, каких много было тогда во Флоренции, каким был и Данте, судя по Джиоттову образу над алтарем в часовне Барджелло (лет в пятнадцать, когда, вероятно, зазнал Данте сера Брунетто, эта девическая, почти ангельская, прелесть Дантова лица могла быть еще пленительней, чем в позднейшие годы, когда писана с него икона-портрет Джиотто).
«Вот связался черт с младенцем!» – посмеивались, должно быть, знавшие вкусы Брунетто над удивительной дружбой великого сановника с маленьким школьником. Думал ли старый греховодник сделать Данте для себя тем же, чем, в Платоновом «Пире», хочет быть Алкивиад для Сократа? Если и думал, то мальчик этого не знал; не узнает, или не захочет знать, и взрослый человек. Но о смертном грехе своего любимого учителя Данте знал так несомненно, что ни искреннее, кажется, хотя и позднее, раскаяние грешника, ни сыновне-почтительная любовь к учителю не помешают ему осудить его на седьмой круг ада, где он его и увидит в сонме вечно бегающих, под огненно-серным дождем, содомитов[23].
Когда ко мне он руки протянул,
Я обожженное лицо его увидел, —
жалкое, коричнево-красное, маленькое, черепку обожженному подобное, личико увидел, и тотчас же узнал:
О, вы ли это, сер Брунетто, здесь?[24]
В этом удивленном возгласе слышится только бесконечная жалость, а за нею, может быть, и странная легкость, с какой ученик прощает смертный грех учителю или даже совсем о нем забывает.
Запечатлен в душе моей доныне
Ваш дорогой, любезный, отчий лик.
Тому меня вы первый научили,
Как человек становится бессмертным[25].
Два бессмертья: одно – на небе, то, которому учат иноки Санта-Кроче; другое – на земле, то, которому учит сер Брунетто, «мирской человек». Надо будет отроку Данте сделать выбор между этими двумя бессмертьями, – двумя путями, – вслед за св. Франциском Ассизским, или за «божественным Виргилием».
Если же он выбора не сделает, то, прежде, чем это скажет, уже почувствует: «есть в душе моей разделение», – между двумя Близнецами, двумя Двойниками, – Знанием и Верой[26].
Но это «разделение души» на две половины, земную и небесную, – только внизу, а наверху – соединяющий небо и землю чистейший образ Ее, Беатриче, надо всей его жизнью, ровным светом горящий, как тихое пламя – вечная тихая молния Трех.
«С этого дня (первой с нею встречи)... бог Любви воцарился в душе моей так... что я вынужден был исполнять все его желания. Много раз повелевал он мне увидеть этого юнейшего Ангела. Вот почему, в детстве, я часто искал ее увидеть, и видел»[27].
Может быть, не только видел, но и говорил с нею, в той длинной, черной тени на белую площадь от башни дэлла Кастанья, утренним солнцем, откинутой. «С раннего детства ты был уж Ее», – напоминает ему бог Любви, может быть, об этих детских свиданьях[28]. О них, может быть, вспомнит и сам Данте:
Не вышел я из отроческих лет,
Когда уже Ее нездешней силой
Был поражен[29].
И уж наверное, вспомнит о них Беатриче в страшном суде над ним, павшим так низко, что ничем нельзя будет спасти его, кроме чуда:
Недолго я могла очарованьем
Невинного лица и детских глаз
Вести его по верному пути[30].
Знал ли двенадцатилетний мальчик, Данте, что с ним делают, или что с ним делается, когда 9 февраля 1277 года (это первая из немногих точек в жизни его, освещенная полным светом истории) заключен был у нотариуса письменный договор между сером Алигьеро и его ближайшим соседом, Манетто Донати, о будущем браке Данте с дочерью Манетто, Джеммой?[31] Данте знал ее давно, может быть, раньше, чем Биче Портинари, потому что они жили почти под одною кровлей, в двух соседних домах, разделенных только небольшим двором, виделись постоянно и, может быть, играли или беседовали на той же солнечно-белой площади, в той же черной тени от башни, где встречался он и с Биче. Но в день помолвки, глядя на эту знакомую, может быть, миловидную, но почему-то вдруг ему опостылевшую, чужую, скучную девочку, не вспомнил ли он ту, другую, единственно ему родную и желанную?
Очень вероятно, что сер Алигьеро, замышляя этот брак, по обычным, в те дни, семейно-политическим и денежным расчетам, желал добра сыну: думал, что ему полезно будет войти в род Донати, хотя и не более древний и знатный, чем род Алигьери, но ничем не запятнанный, как этот, – увы, по его же собственной, сера Алигьеро, вине; думал, может быть, что и тщательно, в брачном условии, оговоренное невестино приданое, хотя и скаредное, – 200 малых золотых флоринов, – тоже на улице не валяется и может пригодиться ему, сыну полуразоренного менялы.
Так совершились две помолвки Данте: первая, с Биче Портинари, земная и небесная вместе, и вторая, с Джеммой Донати, – только земная. «Сладкий и страшный бог Любви» присутствовал на той, а на этой – «маленький бесенок, с насморком», – и тогда уже мальчику Данте, может быть, по отцу, знакомый, ненавистный «меняло-торгашеский» дух.
Две помолвки – два брака; но только один из них действителен. Какой же? В церкви ли венчанный? Надо будет Данте сделать выбор между этими двумя браками, а если он его не сделает, то снова почувствует, прежде чем скажет: «Есть в душе моей разделение».
IV
ПОЖИРАЕМОЕ СЕРДЦЕ
В 1283 году, или очень близко к этому году, произошло в жизни восемнадцатилетнего юноши Данте три великих события: два роковых, одно – роковое и благодатное вместе. Первое – смерть отца. Глядя в мертвое лицо его, понял ли Данте свою вину перед ним – презрение, молчание о тех, кто «никогда не жил»:
Не будем говорить о них: взглянув, пройди![1]
Понял ли вину и его, этого несчастного менялы, ничтожного потомка великих предков, единственную перед сыном, – его рождение? Понял ли, простил ли вину эту, или, не поняв до конца, молча взглянул и прошел; только ниже еще опустились, может быть, горько, точно с бесконечною брезгливостью к миру и людям, опущенные углы рта?
Мимо второго события, в том же году, он уже не мог бы пройти молча: Биче Портинари вышла, или, вернее, выдана была замуж (девушки тогда не выходили, а выдавались замуж) за мессера Симоне де Барди, из вельможного рода богатейших флорентийских менял, чьи торговые дома рассеяны были по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, а может быть, и до Великого Могола в полусказочной Тартарии[2]. Судя по тому, что мессер Симоне женился на Биче, овдовев от первой жены, и что вторая жена его, семнадцатилетняя девочка, оказалась мачехой скверного мальчишки-пасынка, из которого вышел потом большой негодяй, муж монны Биче был человеком уже немолодым[3].
«Многие почитали отца ее тем, чем он в действительности был, – человеком добрейшим», – скажет Данте об отце Беатриче[4]. За год до смерти завещает он большую часть своего огромного богатства, нажитого тоже в меняльном деле (участь юного Данте жить среди менял), не пяти сыновьям и шести дочерям, а великолепной, им построенной, первой во Флоренции, больнице для бедных, при церкви Санта-Мария-Нова[5]. Там он будет и похоронен, вместе со старой любимой служанкой, монной Тэссой (Tessa), посвятившей себя уходу за больными, – может быть, Беатричиной няней. Простое, сильное и доброе лицо ее можно видеть в изваянии на уцелевшем доныне надгробном памятнике[6].
Очень вероятно, что сер Фолько Портинари, выдавая дочь за сера Симоне де Барди, так же хотел ей добра, как отец Данте – сыну, совершая помолвку его с Джеммой Донати. Может быть, брак Беатриче задуман был по таким же семейно-политическим и денежным расчетам, как и брак Данте: знатность к знатности, деньги к деньгам. Очень вероятно, что выдаваемая замуж, семнадцатилетняя Биче знала не многим больше, что с нею делают, или что с ней делается, чем помолвленный двенадцатилетний Данте. Но теперь он уже это знал и за себя, и за нее. Только что покинула она дом Портинари, соседний с домом Алигьери, для великолепного дворца-крепости де Барди, с толстыми, точно тюремными, стенами и зубчатыми башнями, в далеком квартале за Арно, у моста Рубаконте, – страшно опустело для Данте старое гнездо Алигьери, да и вся Флоренция, – весь мир[7]. Сколько бы ни затыкал ушей, не мог он не слышать нового ее, чужого имени: «монна Биче де Барди»; сколько бы ни закрывал глаз, не мог не видеть, как входит невеста в брачный покой жениха; и как бы ни хотел умереть или сойти с ума, чтобы не думать, все-таки думал о том, что было с нею, когда она туда вошла.
Третье событие, в том же году, – роковое и благодатное вместе.
«Ровно через девять лет... после первого явления той благороднейшей, gentilissima... она явилась мне снова, в одежде белейшего цвета, между двумя благородными дамами старшего возраста... и, проходя по улице, обратила глаза свои в ту сторону, где я стоял, в великом страхе; и с той несказанною милостью, за которую ныне чтут ее в мире ином, поклонилась мне так, что я, казалось, достиг предела блаженства... То было... в час дня девятый... И в первый раз ее слова коснулись слуха моего так сладостно, что, вне себя, я бежал от людей в уединенную келью мою и начал думать об этой Любезнейшей. И, в мыслях этих, нашел на меня тишайший сон, и посетило меня чудесное видение: как бы огнецветное облако и, внутри его, образ Владыки с лицом для меня ужасным; но сам в себе казался он радостным... И понял я из многого, что он говорил, только одно: „Я – твой владыка. Ego dominus tuus“. Девушка спала на руках его, вся обнаженная, только в прозрачной ткани цвета крови... И в одной руке держал он что-то, горевшее пламенем, и сказал мне так: „Vide cor tuum. Вот сердце твое!“ И, подождав немного, разбудил спящую... и принудил ее вкусить от того, что пламенело в руке его. И она вкушала в сомнении, dubitosamente. Вскоре же после того радость его обратилась в плач... и, подняв на руках девушку, вознесся он с нею на небо. И, почувствовав такую скорбь, что легкий сон мой вынести ее не мог... я проснулся. И тотчас же... вспомнил, что час, когда явилось мне видение... был первый из девяти последних ночных часов»[8].
Старую народную сказку о сердце любовника, пожираемом возлюбленной, повторяют многие провансальские певцы-трубадуры тех дней. Данте, хорошо их знавший, мог узнать от них и эту сказку. Но по тому, как он ее рассказывает, чувствуется, что это для него больше, чем сказка. Может быть, он так долго и пристально думал о ней, что сказочное сделалось для него действительным, в страшном и чудном видении, вещем сне наяву. Чудно и страшно то, что Данте видит, в первый и последний раз, в этом сне, наготу Беатриче: «девушка спала на руках бога Любви, вся обнаженная». Любящий видит наготу возлюбленной только в том соединении любви, когда «они уже не двое, но одна плоть» (Мт. 19, 6). Видели наготу Беатриче только два человека: Симон де Барди и Данте Алигьери, муж и возлюбленный; тот – наяву, этот – во сне. Но что действительнее – явь того или сон этого, – люди не знают; знает только «сладкий и страшный бог Любви».
Что значит для Данте нагота Беатриче, мог бы понять Ботичелли. Лучше ослепнуть, чем грешными глазами увидеть наготу чистейшую Той, что смутилась от слова Ангела: «Радуйся, Благодатная»; лучше сойти с ума, чем помыслить об этой наготе, – знает Ботичелли так же хорошо, как Данте. Но прежде чем сойти с ума и едва не сжечь свою Новорожденную Венеру на костре Савонароллы, он все-таки увидел в ее земной наготе – неземную. Слишком одинаковы детски-испуганные и заплаканные очи только что родившейся Венеры и только что родившей Богоматери, чтобы не узнать одну в двух: плачет, страшится та, может быть, оттого, что родилась, а эта, – оттого, что родила. Та, в одежде, – эта; эта, обнаженная, – та.
Чудно и страшно, что Данте видит наготу Беатриче; но еще страшнее, чудеснее, что бог Любви принуждает ее пожирать сердце возлюбленного; что чистейшая любовь этой «Женщины-Ангела», donna angelicata, подобна сладострастию паучихи, пожирающей самца своего.
Что это значит, Данте не может понять и мучается так, что едва не сходит с ума.
Ты злым недугом одержим и бредишь;
Ступай к врачу, —
остерегает его, узнав об этом, тезка его, Данте да Майяно, в грубых, но неглупых, стихах, потому что и доныне, можно сказать, единственный нелицемерный суд мира сего над любовью Данте к Беатриче – этот: «Ты злым недугом одержим, ступай к врачу»[9].
Близость «злого недуга» и сам Данте, кажется, чувствует, в эти дни. «После моего видения... я так похудел и ослабел, что друзьям было тяжело смотреть на меня»[10]. – «И слышал я, как многие говорили обо мне: видите, как этою Дамою разрушено тело его!»[11]
Лучше всего видно по этому, что вещий сон о пожираемом сердце для Данте – не старая, милая сказка, а страшная новая действительность – дело жизни и смерти.
Но очень вероятно, что были и такие минуты, когда «злой недуг» затихал, и Данте смешивал действительность с вымыслом, «сладкие речи» – с горьким делом любви; играл, или хотел играть, как школьник, с тем, с чем не должно играть. Может быть, в одну из таких минут, и решился он открыть свое видение многим, прославленным в те дни певцам-трубадурам. «Так как я сам тогда уже научился говорить стихами, то решил написать сонет об этом видении, посвященный всем верным слугам (бога) Любви». С детски-простодушным доверием, по тогдашнему любовно-школьному обычаю, разослал он им этот сонет, которым и начинается вся его поэзия:
признается и сам Брунетто[20]. Что это значит, объяснит он, покаявшись на старости лет, когда и черт становится монахом:
И в Бога я не верил,
И церкви я не чтил,
Словами и делами
Я оскорблял ее[21].
Больше всего оскорблял тем пороком, о котором скажет Ариосто:
Мало есть ученых, в наши дни, без этого порока,
за который был вынужден Бог
опустошить Содом и Гоморру[22].
Слишком усердно подражал Брунетто великим образцам языческой древности; слишком нравились ему отроки с девической прелестью лиц, каких много было тогда во Флоренции, каким был и Данте, судя по Джиоттову образу над алтарем в часовне Барджелло (лет в пятнадцать, когда, вероятно, зазнал Данте сера Брунетто, эта девическая, почти ангельская, прелесть Дантова лица могла быть еще пленительней, чем в позднейшие годы, когда писана с него икона-портрет Джиотто).
«Вот связался черт с младенцем!» – посмеивались, должно быть, знавшие вкусы Брунетто над удивительной дружбой великого сановника с маленьким школьником. Думал ли старый греховодник сделать Данте для себя тем же, чем, в Платоновом «Пире», хочет быть Алкивиад для Сократа? Если и думал, то мальчик этого не знал; не узнает, или не захочет знать, и взрослый человек. Но о смертном грехе своего любимого учителя Данте знал так несомненно, что ни искреннее, кажется, хотя и позднее, раскаяние грешника, ни сыновне-почтительная любовь к учителю не помешают ему осудить его на седьмой круг ада, где он его и увидит в сонме вечно бегающих, под огненно-серным дождем, содомитов[23].
Когда ко мне он руки протянул,
Я обожженное лицо его увидел, —
жалкое, коричнево-красное, маленькое, черепку обожженному подобное, личико увидел, и тотчас же узнал:
О, вы ли это, сер Брунетто, здесь?[24]
В этом удивленном возгласе слышится только бесконечная жалость, а за нею, может быть, и странная легкость, с какой ученик прощает смертный грех учителю или даже совсем о нем забывает.
Запечатлен в душе моей доныне
Ваш дорогой, любезный, отчий лик.
Тому меня вы первый научили,
Как человек становится бессмертным[25].
Два бессмертья: одно – на небе, то, которому учат иноки Санта-Кроче; другое – на земле, то, которому учит сер Брунетто, «мирской человек». Надо будет отроку Данте сделать выбор между этими двумя бессмертьями, – двумя путями, – вслед за св. Франциском Ассизским, или за «божественным Виргилием».
Если же он выбора не сделает, то, прежде, чем это скажет, уже почувствует: «есть в душе моей разделение», – между двумя Близнецами, двумя Двойниками, – Знанием и Верой[26].
Но это «разделение души» на две половины, земную и небесную, – только внизу, а наверху – соединяющий небо и землю чистейший образ Ее, Беатриче, надо всей его жизнью, ровным светом горящий, как тихое пламя – вечная тихая молния Трех.
«С этого дня (первой с нею встречи)... бог Любви воцарился в душе моей так... что я вынужден был исполнять все его желания. Много раз повелевал он мне увидеть этого юнейшего Ангела. Вот почему, в детстве, я часто искал ее увидеть, и видел»[27].
Может быть, не только видел, но и говорил с нею, в той длинной, черной тени на белую площадь от башни дэлла Кастанья, утренним солнцем, откинутой. «С раннего детства ты был уж Ее», – напоминает ему бог Любви, может быть, об этих детских свиданьях[28]. О них, может быть, вспомнит и сам Данте:
Не вышел я из отроческих лет,
Когда уже Ее нездешней силой
Был поражен[29].
И уж наверное, вспомнит о них Беатриче в страшном суде над ним, павшим так низко, что ничем нельзя будет спасти его, кроме чуда:
Недолго я могла очарованьем
Невинного лица и детских глаз
Вести его по верному пути[30].
Знал ли двенадцатилетний мальчик, Данте, что с ним делают, или что с ним делается, когда 9 февраля 1277 года (это первая из немногих точек в жизни его, освещенная полным светом истории) заключен был у нотариуса письменный договор между сером Алигьеро и его ближайшим соседом, Манетто Донати, о будущем браке Данте с дочерью Манетто, Джеммой?[31] Данте знал ее давно, может быть, раньше, чем Биче Портинари, потому что они жили почти под одною кровлей, в двух соседних домах, разделенных только небольшим двором, виделись постоянно и, может быть, играли или беседовали на той же солнечно-белой площади, в той же черной тени от башни, где встречался он и с Биче. Но в день помолвки, глядя на эту знакомую, может быть, миловидную, но почему-то вдруг ему опостылевшую, чужую, скучную девочку, не вспомнил ли он ту, другую, единственно ему родную и желанную?
Очень вероятно, что сер Алигьеро, замышляя этот брак, по обычным, в те дни, семейно-политическим и денежным расчетам, желал добра сыну: думал, что ему полезно будет войти в род Донати, хотя и не более древний и знатный, чем род Алигьери, но ничем не запятнанный, как этот, – увы, по его же собственной, сера Алигьеро, вине; думал, может быть, что и тщательно, в брачном условии, оговоренное невестино приданое, хотя и скаредное, – 200 малых золотых флоринов, – тоже на улице не валяется и может пригодиться ему, сыну полуразоренного менялы.
Так совершились две помолвки Данте: первая, с Биче Портинари, земная и небесная вместе, и вторая, с Джеммой Донати, – только земная. «Сладкий и страшный бог Любви» присутствовал на той, а на этой – «маленький бесенок, с насморком», – и тогда уже мальчику Данте, может быть, по отцу, знакомый, ненавистный «меняло-торгашеский» дух.
Две помолвки – два брака; но только один из них действителен. Какой же? В церкви ли венчанный? Надо будет Данте сделать выбор между этими двумя браками, а если он его не сделает, то снова почувствует, прежде чем скажет: «Есть в душе моей разделение».
IV
ПОЖИРАЕМОЕ СЕРДЦЕ
В 1283 году, или очень близко к этому году, произошло в жизни восемнадцатилетнего юноши Данте три великих события: два роковых, одно – роковое и благодатное вместе. Первое – смерть отца. Глядя в мертвое лицо его, понял ли Данте свою вину перед ним – презрение, молчание о тех, кто «никогда не жил»:
Не будем говорить о них: взглянув, пройди![1]
Понял ли вину и его, этого несчастного менялы, ничтожного потомка великих предков, единственную перед сыном, – его рождение? Понял ли, простил ли вину эту, или, не поняв до конца, молча взглянул и прошел; только ниже еще опустились, может быть, горько, точно с бесконечною брезгливостью к миру и людям, опущенные углы рта?
Мимо второго события, в том же году, он уже не мог бы пройти молча: Биче Портинари вышла, или, вернее, выдана была замуж (девушки тогда не выходили, а выдавались замуж) за мессера Симоне де Барди, из вельможного рода богатейших флорентийских менял, чьи торговые дома рассеяны были по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, а может быть, и до Великого Могола в полусказочной Тартарии[2]. Судя по тому, что мессер Симоне женился на Биче, овдовев от первой жены, и что вторая жена его, семнадцатилетняя девочка, оказалась мачехой скверного мальчишки-пасынка, из которого вышел потом большой негодяй, муж монны Биче был человеком уже немолодым[3].
«Многие почитали отца ее тем, чем он в действительности был, – человеком добрейшим», – скажет Данте об отце Беатриче[4]. За год до смерти завещает он большую часть своего огромного богатства, нажитого тоже в меняльном деле (участь юного Данте жить среди менял), не пяти сыновьям и шести дочерям, а великолепной, им построенной, первой во Флоренции, больнице для бедных, при церкви Санта-Мария-Нова[5]. Там он будет и похоронен, вместе со старой любимой служанкой, монной Тэссой (Tessa), посвятившей себя уходу за больными, – может быть, Беатричиной няней. Простое, сильное и доброе лицо ее можно видеть в изваянии на уцелевшем доныне надгробном памятнике[6].
Очень вероятно, что сер Фолько Портинари, выдавая дочь за сера Симоне де Барди, так же хотел ей добра, как отец Данте – сыну, совершая помолвку его с Джеммой Донати. Может быть, брак Беатриче задуман был по таким же семейно-политическим и денежным расчетам, как и брак Данте: знатность к знатности, деньги к деньгам. Очень вероятно, что выдаваемая замуж, семнадцатилетняя Биче знала не многим больше, что с нею делают, или что с ней делается, чем помолвленный двенадцатилетний Данте. Но теперь он уже это знал и за себя, и за нее. Только что покинула она дом Портинари, соседний с домом Алигьери, для великолепного дворца-крепости де Барди, с толстыми, точно тюремными, стенами и зубчатыми башнями, в далеком квартале за Арно, у моста Рубаконте, – страшно опустело для Данте старое гнездо Алигьери, да и вся Флоренция, – весь мир[7]. Сколько бы ни затыкал ушей, не мог он не слышать нового ее, чужого имени: «монна Биче де Барди»; сколько бы ни закрывал глаз, не мог не видеть, как входит невеста в брачный покой жениха; и как бы ни хотел умереть или сойти с ума, чтобы не думать, все-таки думал о том, что было с нею, когда она туда вошла.
Третье событие, в том же году, – роковое и благодатное вместе.
«Ровно через девять лет... после первого явления той благороднейшей, gentilissima... она явилась мне снова, в одежде белейшего цвета, между двумя благородными дамами старшего возраста... и, проходя по улице, обратила глаза свои в ту сторону, где я стоял, в великом страхе; и с той несказанною милостью, за которую ныне чтут ее в мире ином, поклонилась мне так, что я, казалось, достиг предела блаженства... То было... в час дня девятый... И в первый раз ее слова коснулись слуха моего так сладостно, что, вне себя, я бежал от людей в уединенную келью мою и начал думать об этой Любезнейшей. И, в мыслях этих, нашел на меня тишайший сон, и посетило меня чудесное видение: как бы огнецветное облако и, внутри его, образ Владыки с лицом для меня ужасным; но сам в себе казался он радостным... И понял я из многого, что он говорил, только одно: „Я – твой владыка. Ego dominus tuus“. Девушка спала на руках его, вся обнаженная, только в прозрачной ткани цвета крови... И в одной руке держал он что-то, горевшее пламенем, и сказал мне так: „Vide cor tuum. Вот сердце твое!“ И, подождав немного, разбудил спящую... и принудил ее вкусить от того, что пламенело в руке его. И она вкушала в сомнении, dubitosamente. Вскоре же после того радость его обратилась в плач... и, подняв на руках девушку, вознесся он с нею на небо. И, почувствовав такую скорбь, что легкий сон мой вынести ее не мог... я проснулся. И тотчас же... вспомнил, что час, когда явилось мне видение... был первый из девяти последних ночных часов»[8].
Старую народную сказку о сердце любовника, пожираемом возлюбленной, повторяют многие провансальские певцы-трубадуры тех дней. Данте, хорошо их знавший, мог узнать от них и эту сказку. Но по тому, как он ее рассказывает, чувствуется, что это для него больше, чем сказка. Может быть, он так долго и пристально думал о ней, что сказочное сделалось для него действительным, в страшном и чудном видении, вещем сне наяву. Чудно и страшно то, что Данте видит, в первый и последний раз, в этом сне, наготу Беатриче: «девушка спала на руках бога Любви, вся обнаженная». Любящий видит наготу возлюбленной только в том соединении любви, когда «они уже не двое, но одна плоть» (Мт. 19, 6). Видели наготу Беатриче только два человека: Симон де Барди и Данте Алигьери, муж и возлюбленный; тот – наяву, этот – во сне. Но что действительнее – явь того или сон этого, – люди не знают; знает только «сладкий и страшный бог Любви».
Что значит для Данте нагота Беатриче, мог бы понять Ботичелли. Лучше ослепнуть, чем грешными глазами увидеть наготу чистейшую Той, что смутилась от слова Ангела: «Радуйся, Благодатная»; лучше сойти с ума, чем помыслить об этой наготе, – знает Ботичелли так же хорошо, как Данте. Но прежде чем сойти с ума и едва не сжечь свою Новорожденную Венеру на костре Савонароллы, он все-таки увидел в ее земной наготе – неземную. Слишком одинаковы детски-испуганные и заплаканные очи только что родившейся Венеры и только что родившей Богоматери, чтобы не узнать одну в двух: плачет, страшится та, может быть, оттого, что родилась, а эта, – оттого, что родила. Та, в одежде, – эта; эта, обнаженная, – та.
Чудно и страшно, что Данте видит наготу Беатриче; но еще страшнее, чудеснее, что бог Любви принуждает ее пожирать сердце возлюбленного; что чистейшая любовь этой «Женщины-Ангела», donna angelicata, подобна сладострастию паучихи, пожирающей самца своего.
Что это значит, Данте не может понять и мучается так, что едва не сходит с ума.
Ты злым недугом одержим и бредишь;
Ступай к врачу, —
остерегает его, узнав об этом, тезка его, Данте да Майяно, в грубых, но неглупых, стихах, потому что и доныне, можно сказать, единственный нелицемерный суд мира сего над любовью Данте к Беатриче – этот: «Ты злым недугом одержим, ступай к врачу»[9].
Близость «злого недуга» и сам Данте, кажется, чувствует, в эти дни. «После моего видения... я так похудел и ослабел, что друзьям было тяжело смотреть на меня»[10]. – «И слышал я, как многие говорили обо мне: видите, как этою Дамою разрушено тело его!»[11]
Лучше всего видно по этому, что вещий сон о пожираемом сердце для Данте – не старая, милая сказка, а страшная новая действительность – дело жизни и смерти.
Но очень вероятно, что были и такие минуты, когда «злой недуг» затихал, и Данте смешивал действительность с вымыслом, «сладкие речи» – с горьким делом любви; играл, или хотел играть, как школьник, с тем, с чем не должно играть. Может быть, в одну из таких минут, и решился он открыть свое видение многим, прославленным в те дни певцам-трубадурам. «Так как я сам тогда уже научился говорить стихами, то решил написать сонет об этом видении, посвященный всем верным слугам (бога) Любви». С детски-простодушным доверием, по тогдашнему любовно-школьному обычаю, разослал он им этот сонет, которым и начинается вся его поэзия: