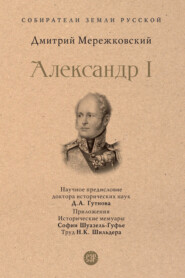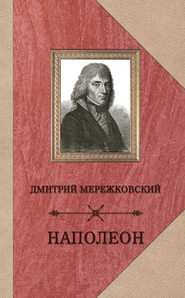По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Данте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Всякой любящей душе и благородному сердцу,
всем, кто прочтет эти слова мои
и ответит, что о них думает, —
Привет, в их Владыке, чье имя – Любовь![12]
Кажется, впрочем, и здесь Данте не только играет, но делает, или хочет сделать что-то нужное для себя и для других, – ищет у людей помощи и хочет им помочь, в общем с ними, «злом недуге» любви; может быть, открывает он людям, невольно, эту заповеднейшую тайну любви своей, уже предчувствуя, что она имеет какой-то новый, людям неведомый, роковой или благодатный смысл не только для него одного, но и для всего человечества. Как бы то ни было, очень знаменательно, что, открывая тайну свою, Данте, хотя и признается, что «внезапное явление бога Любви было для него ужасно», все-таки утаивает самое ужасное или блаженное в этом явлении – наготу Беатриче[13].
«Многие по-разному ответили мне на этот сонет... Но истинный смысл того сна не был тогда понят никем; ныне же он ясен и для самых простых людей». Нет, и ныне все еще темен: вот уже семь веков люди ломают голову над этой загадкой Данте – вечной загадкой любви; и сейчас она темнее, чем когда-либо.
«Был среди ответивших и тот, кого я называю первым из друзей моих... И то, что он ответил мне, было как бы началом нашей дружбы»[14]. Этот первый друг его, Гвидо Кавальканти – лучший флорентийский поэт тех дней, – «прекрасный юноша, благородный рыцарь, любезный и отважный, но гордый и нелюдимый, весь погруженный в науку», – вспоминает о нем летописец, Дино Кампаньи. – «Может быть, никого, во Флоренции, не было тогда ему равного», – вспомнит о нем и веселый рассказчик, Франко Саккетти[15].
Кажется, Данте заразился от Кавальканти, а может быть, и от других, усердно им, в те дни, изучаемых провансальских любовных певцов-трубадуров, болезнью века – ученым школярством, схоластикой любви[16]. Юные дамы на провансальских «Судах Любви», corte d’amore, философствуют с ученой «любезностью», ссылаясь на Аристотеля, Платона, Аверрона, Ависенну и Боэция, не хуже старых ученых схоластиков[17].
«Чтобы философствовать, нужно любить», – скажет Данте[18]; но мог бы сказать и наоборот: «Чтобы любить, надо философствовать»; так он и скажет действительно: «Надо, чтобы философские доводы внушили мне любовь»[19].
Истинная любовь не плачет, не смеется, —
учит трубадур, Гвидо Орланди, тоже ученый схоластик любви. Мог бы, или хотел бы с этим согласиться и Данте[20]. Все, в «Новой жизни», как будто философски доказано, измышлено, измерено, исчислено; все правильно, как в геометрии. Сам бог или демон Любви – Геометр; вместо факела, в руке его, – циркуль. – «Юношу увидел я... в белых одеждах, сидевшего рядом со мной, на моей постели, и смотревшего на меня задумчиво... И он сказал мне: „Я – как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности, а ты – не так“. И я спросил его: „Зачем ты говоришь... так непонятно?“[21] Или, может быть, напротив, – слишком понятно, отвлеченно-холодно.
Но все это – как будто, а на самом деле вовсе не так. Холодно – извне, а внутри – огненно. Меряет божественный Геометр круг любви – круг вечности – циркулем, а сам «горько плачет»[22]. Плачущая «геометрия» любви, – в нежности своей почти страшная, такая же вся трепетно-живая, страстная и заплаканная, как Августинова «Исповедь»[23]. Более точной записи того, что говорит Любовь сердцу человеческому, не было никогда и, вероятно, не будет.
...Я один из тех,
Кто слушает, что говорит в их сердце
Любовь, и пишет то, что слышит[24].
Пальцы у него в чернилах, как у школяра-схоластика, но когда пишут в стихах «стройными длинными и тонкими», на него самого похожими буквами, «сладкие речи любви», то дрожат от волнения[25]. Сухо шелестят страницы пыльных, старых книг, но подымает их вещий из открытого окна, душисто-влажный, как поцелуй любви, весенний ветер. Эта юная утренняя, клейкими листочками пахнущая, «схоластика любви» – совсем не такая, какой будет потом и какой она кажется нам. Дышит сквозь нее вся прелесть и нежность, все благоухание ранней флорентийской весны, Primavera, или розово-серая туманность, жемчужность летнего утра, – та же грусть о недолговечности всех радостей земных, как в детски-испуганных, заплаканных глазах Весны Ботичелли.
Очень простой и печальный смысл «Новой жизни» можно бы выразить двумя словами: нельзя любить; здесь, на земле, в теле земном, человеку любить нельзя; нет любви, – есть похоть, в браке или в блуде, а то, что люди называют «любовью», – только напрасное ожидание, неутолимая память о том, что где-то, когда-то была любовь, и робкая надежда, что будет снова. Нет любви на земле, – есть только тень ее, но такая прекрасная, что кто ее однажды увидел, готов отдать за нее весь мир. Вот почему, в книге этой, – такая грусть и такое блаженство.
Вот как вспоминает летописец тех дней о флорентийских празднествах «Владыки Любви», signor Amore, в том же году, когда явился он впервые восемнадцатилетнему отроку Данте. «В 1283 году от Рождества Христа, в городе Флоренции, бывшем тогда в великом спокойствии, мире и благоденствии, благодаря торговле своей и ремеслам... в месяце июне, в Иванов день... многие благородные дамы и рыцари, все в белых одеждах... шествуя по улицам, с трубами и многими другими музыкальными орудиями... чествовали, в играх, весельях, плясках и празднествах, того, чье имя: Любовь. И продолжалось то празднество около двух месяцев, и было благороднейшим и знаменитейшим из всех, какие бывали когда-либо во Флоренции. Прибыли же на него и из чужих земель многие благородные люди и игрецы-скоморохи, и приняты были с великим почетом и ласкою»[26].
Вся Флоренция, в эти дни, – город влюбленных юношей и девушек, мальчиков и девочек, таких же, как Данте и Биче.
Чтобы понять, что тогда совершалось, надо вспомнить: скоро зашевелится вся земля окрестных долин и холмов от восстающих из нее мертвецов древних богов или демонов. Первым вышел бог Любви, «Владыка с ужасным лицом», и явился Данте, первому[27]. Самое ужасное в этом лице – смешение бога с демоном и сходство его то с Беатриче, то с самим Данте: это как бы чередующийся двойник обоих.
Имя ее: «Любовь», – так она похожа на меня, – скажет о Беатриче сам бог Любви[28].
«Пира» Платона Данте, вероятно, не читал, но если бы прочел, то, может быть, узнал бы самое страшное и неизреченное имя «Владыки» своего, бога или демона любви: «Андрогин», «Муже-женщина» «Данте-Беатриче». Два в Одном; это и значит: «всех чудес начало – Три», соединение Двух в Третьем.
Кажется, лучше всего увидел и понял лицо Данте, в «Новой жизни», – Джиотто, в портрете-иконе над алтарем часовни Барджелло: полузакрытые, как у человека засыпающего, или только что проснувшегося, глаза; в призрачно-прозрачном, отрочески-девичьем лице – неисцелимая грусть и покорная жертвенность, как у любящего, чье сердце пожираемо возлюбленной; губы бескровны, точно всю кровь из жил высосал жадный вампир, – «сладкий и страшный» бог-демон Любви.
V
ЕРЕСЬ ЛЮБВИ
«Я полагаю, что никогда никакой Беатриче... не было, а было такое же баснословное существо, как Пандора, осыпанная всеми дарами богов, по измышлению поэтов» – это говорит поздний, XV века, и плохо осведомленный, только рабски повторяющий Боккачио и Леонардо Бруни, жизнеописатель Данте, Джиованни Марио Филельфо[1]. Первый усомнился он в существовании Беатриче. В XIX веке сомнение это было жадно подхвачено и, хотя потом рассеяно множеством найденных свидетельств об историческом бытии монны Биче Портинари, так что вопрос: была ли Беатриче? – почти столь же нелеп, как вопрос: был ли Данте? – сомнение все же осталось и, вероятно, навсегда останется, потому что самый вопрос: что такое любовь Данте к Беатриче, история или мистерия? – относится к религиозному, сверхисторическому порядку бытия[2].
Эта часть жизни Данте освещена, может быть, самым ярким, но как бы не нашим, светом невидимых для нас, инфракрасных или ультрафиолетовых, лучей. В этой любви у всего – запах, вкус, цвет, звук, осязаемость недействительного, нездешнего, чудесного, но не более ли действительного, чем все, что нам кажется таким, – в этом весь вопрос. Но что он не существует вовсе для большинства людей, видно из того, что ближайший ко времени Данте жизнеописатель его, Леонардо Бруни, уже ничего не понимает в этой любви: «Лучше бы упомянул Боккачио о доблести, с какой сражался Данте в этом бою (под Кампальдино), чем о любви девятилетнего мальчика и о тому подобных пустяках»[3]. Это «пустяки»; этого не было и не могло быть, потому что это слишком похоже на чудо, а чудес не бывает. Ну, а если все-таки было? Здесь, хотя и в бесконечно-низшем порядке, тот же вопрос, как об историческом бытии Христа по евангельским свидетельствам: было это или не было? история или мистерия?
Любовь Данте к Беатриче, в самом деле, одно из чудес всемирной истории, одна из точек ее прикосновения к тому, что над нею, – продолжение тех несомненнейших, хотя и невероятнейших, чудес, которые совершились в жизни, смерти и воскресении Христа: если не было того, нет и этого; а если было то, есть и это.
Может быть, сам Данте отчасти виноват в том, что люди усомнились, была ли Беатриче. «Так как подобные чувства, в столь юном возрасте, могут казаться баснословными, то я умолчу о них вовсе». – «Я боюсь, не слишком ли много я уже сказал» (о Беатриче)[4].
Данте говорит о ней так, что остается неизвестным главное: есть ли она? И так, как будто вся она – только для него, а сама по себе вовсе не существует; помнит он и думает только о том, что она для него и что он для нее, а что она сама для себя, – об этом не думает. Слишком торопится сделать из земной женщины «Ангела», принести земную в жертву небесной, не спрашивая, хочет ли она этого сама, и забывая, что человеку сделаться Ангелом значит умереть; а желать ему этого значит желать ему смерти.
Кажется иногда, что не случайно, а нарочно все в «Новой жизни», как в музыке: внешнего нет ничего, есть только внутреннее; все неопределенно, туманно, призрачно, как в серебристой жемчужности, тающих в солнечной мгле, Тосканских гор и долин. Неизвестно, что, где и когда происходит; даже Флоренция ни разу во всей книге не названа по имени; вместо Флоренции, – «тот город, где обитала Лучезарная Дама души моей»; даже имя Беатриче сомнительно: «та, которую называли „Беатриче“ многие, не умевшие назвать ее иначе»[5].
Это тем удивительнее, что Данте, как видно по «Комедии», и даже по некоторым нечаянным подробностям в самой «Новой жизни», любит деловую, иногда более научную, чем художественную, точность образов, почти геометрически-сухую резкость очертаний.
Кажется иногда, что он говорит о любви своей так, как будто скрывает в ней что-то от других, а может быть, и от себя самого; чего-то в ней боится или стыдится; прячет какие-то улики, заметает какие-то следы. «Я боюсь, что слишком много сказал (о ней)...» Кажется, что прав Боккачио, когда вспоминает: «В более зрелом возрасте Данте очень стыдился того, что написал эту книгу» («Новую жизнь»)[6]. Чтобы Данте «стыдился» любви своей к Беатриче, – невероятно и похоже на клевету; но еще, пожалуй, невероятнее, что Боккачио взвел на Данте такую клевету; и тем невероятнее, что сам Данте признается: «В этой книге (в „Пире“) я хочу быть более мужественным, чем в „Новой жизни“[7]. – „Более мужественным“ значит: „менее малодушным“, – не таким, чтобы этого надо было „стыдиться“ потом. „Я боюсь, чтобы эта поработившая меня страсть не показалась людям слишком низкою“, – скажет он о второй любви своей, для которой изменит первой, – к Беатриче, но кажется, он мог бы, или хотел, в иные минуты, сказать то же и о первой любви.
О, сколько раз к тебе я приходил,
Но видел я тебя в столь низких мыслях,
Что твоего высокого ума
И сил потерянных мне было жалко...
И столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей, —
скажет ему «первый друг» его, Гвидо Кавальканти, именно в эти дни и, кажется, об этих именно днях любви его к Беатриче[8].
В чем же действительная, или хотя бы только возможная, «низость» этой как будто высочайшей и святейшей любви? В невольной или вольной, возможной или действительной лжи, – тем более грешной и низкой, чем выше и святее любовь. «Всей любви начало – в ее глазах... а конец – в устах. Но чтобы всякую порочную мысльудалить, я говорю... что всех моих желаний конец – в исходящем из уст ее приветствии[9].
Чтобы человек, молодой и здоровый, влюбленный в женщину так, что бледнеет и краснеет, завидев ее только издали, на улице, а когда она к нему подходит, – убегает, боясь лишиться чувств, – чтобы такой влюбленный, в течение семи-восьми лет, ничего от любимой не пожелал, кроме мимолетного приветствия, – этому люди никогда не поверят; верит ли сам Данте? Если верит, то тем хуже для него: вечный воздыхатель Беатриче так же смешон, как вечный воздыхатель Дульцинеи; или еще смешнее, потому что Данте – не Дон Кихот.
...Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит (Мт. 19, 12).
Помнит ли Данте это страшное слово, и если помнит, – почему не уйдет в монастырь, не оскопит духом плоть свою?
Что ему сказала Беатриче, в той мгновенной, уличной встрече, когда «слова ее коснулись впервые слуха его так сладостно», что он был «вне себя»? Может быть, всего три слова: «доброго дня, Данте». Но он успел спросить ее молча, глазами: «Можно любить?» – и прочесть в ее глазах ответ: «Можно».
Монна Биче, жена сера Симоне де Барди, позволяла ему, Данте, любить себя, как он любил ее в девушках. И не только она, – позволял и муж, зная, что эта любовь – без последствий, как у детей и скопцов.
Но сколько бы Данте ни делал Беатриче «Ангелом», он был уже и тогда слишком большим правдолюбцем, или, как мы говорим, «реалистом», чтобы не знать, что не к Ангелу в спальню входит муж, а к женщине, и чтобы не думать о том, глазами не видеть того, что это значит для нее и для него.
Очень вероятно, что бывали, в любви его к Беатриче, такие минуты, – нам неизвестные, скрытые, но, может быть, самые важные, решающие все – когда он соглашался с Гвидо Кавальканти, что жизнь его «презренна». Видя, как вельможный «меняла», Симоне де Барди, с преувеличенной любезностью кланяется ему, бедному школяру-стихоплету, он сжимал, у пояса-веревки св. Франциска, рукоять действительного, или воображаемого, ножа и чувствовал, с каким наслаждением, вонзив его в сердце врага, перевернул бы в нем трижды. Но в то же время знал, что никогда этого не сделает, и вовсе не потому, что, как св. Франциск, врагу прощает. Очень вероятно, что в такие минуты он соглашался и с Форезе Донати:
...Тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же трус презреннейший, как он.
Вот на какие раны сердца целящим бальзамом была для него вышедшая, в 1280 году, книга «О любви», De amore, Андрея Капеллана, духовника владетельной графини Марии Шампанской, чей двор, убежище всех бродячих певцов, труверов и трубадуров, сделался тогда великой «Судебной Палатой Любви», Cour d’Amour[10].
Если сам Данте и не читал книги Капеллана, то не мог хорошо не знать о ней от первого друга своего и учителя, Гвидо Кавальканти, а также от других флорентийских поэтов, творцов «нового сладкого слога», doice stil nuovo, – ее усердных читателей.
Смехом казнится брачная любовь на суде графини Марии. «Может ли быть истинная любовь между супругами?» – спрашивает Андрей Капеллан, священник, совершавший, конечно, много раз таинство брака, и отвечает: «Нет, не может»[11]. – «Брачная любовь и та, что соединяет истинных любовников, совершенно различны, потому что исходят из различнейших чувств»[12]. Истинная любовь, самая блаженная и огненная, – любовь издалека, amor da lonh»[13]. Это и значит: лучше, вопреки Павлу, «разжигаться похотью», чем вступать в брак, чтобы утолить похоть, или утишить ее, потому что никаким плотским соединением похоть не утолима, как жажда – соленой водой. «Брак не может быть законной отговоркой от любви»[14]. Здесь все опрокинуто так, что блуд становится браком, а брак – блудом. Эта новая «неземная любовь» оказывается сплошным прелюбодеянием, что не мешает законодателям ее считать себя, по слову Иоахима Флорского, пророка «Вечного Евангелия», – теми людьми, «коих пришествия ждет мир»[15].
Знал ли св. Доминик, что делает, когда, объявляя крестовый поход на еретиков альбигойцев, зажег первые костры Святейшей Инквизиции, на юге Франции, именно там, где провансальские певцы, труверы и трубадуры, полурыцари, полусвященники, в Судах Любви, возвещали миру новое «веселое знание», gaya sienzia, «любовь, радость и молодость», amors, joi e joven?[16] В те именно дни, после десяти веков смерти, ожили вдруг, сначала на славянском Востоке, а потом и на всем европейском Западе, в катарах, патаринах, альбигойцах, вальдейцах и многих других еретиках, две опаснейшие ереси двух величайших ересиархов, Монтана и Манеса[17]. В Муже воплотилось Второе Лицо Троицы, Сын, а Третье Лицо, Дух, воплотится в Жене, или Деве, или в Муже-Жене, Отроке-Деве: так учит Монтан[18]. К этому воплощению путь – неземная любовь к Прекрасной Даме – к Той, которая, для Данте, есть «Девять – Трижды Три – чудо, чей корень... единая Троица»[19]. В образе человеческом – может быть, женском или девичьем, или муже-женском, отроко-девичьем, – является Дух в «Ланчелоте-Граале», книге, погубившей Франческу да Римини и, кажется, едва не погубившей Данте[20].
Мир, лежащий во зле, создан не добрым Богом, а злым, – учит Манес[21]. Воля доброго Бога есть конец злого мира, а бесконечное продолжение его есть воля дьявола, Противобога, чье главное оружие – плотская похоть, брак и деторождение. «Плодитесь и множитесь» – заповедано всей твари не Богом, а дьяволом. Им же создано то, чем отличается мужское тело от женского. Плотская похоть есть начало греха и смерти – Древо познания: Еву познав, умер Адам. Плотский брак – такой же смертный грех, как блуд, потому что оба равно замедляют, деторождением, возврат изгнанных, живущих на земле-чужбине, душ в небесное отечество. И даже брак – больший грех, чем блуд, потому что согрешающие в блуде иногда каются, а в браке – никогда[22].
всем, кто прочтет эти слова мои
и ответит, что о них думает, —
Привет, в их Владыке, чье имя – Любовь![12]
Кажется, впрочем, и здесь Данте не только играет, но делает, или хочет сделать что-то нужное для себя и для других, – ищет у людей помощи и хочет им помочь, в общем с ними, «злом недуге» любви; может быть, открывает он людям, невольно, эту заповеднейшую тайну любви своей, уже предчувствуя, что она имеет какой-то новый, людям неведомый, роковой или благодатный смысл не только для него одного, но и для всего человечества. Как бы то ни было, очень знаменательно, что, открывая тайну свою, Данте, хотя и признается, что «внезапное явление бога Любви было для него ужасно», все-таки утаивает самое ужасное или блаженное в этом явлении – наготу Беатриче[13].
«Многие по-разному ответили мне на этот сонет... Но истинный смысл того сна не был тогда понят никем; ныне же он ясен и для самых простых людей». Нет, и ныне все еще темен: вот уже семь веков люди ломают голову над этой загадкой Данте – вечной загадкой любви; и сейчас она темнее, чем когда-либо.
«Был среди ответивших и тот, кого я называю первым из друзей моих... И то, что он ответил мне, было как бы началом нашей дружбы»[14]. Этот первый друг его, Гвидо Кавальканти – лучший флорентийский поэт тех дней, – «прекрасный юноша, благородный рыцарь, любезный и отважный, но гордый и нелюдимый, весь погруженный в науку», – вспоминает о нем летописец, Дино Кампаньи. – «Может быть, никого, во Флоренции, не было тогда ему равного», – вспомнит о нем и веселый рассказчик, Франко Саккетти[15].
Кажется, Данте заразился от Кавальканти, а может быть, и от других, усердно им, в те дни, изучаемых провансальских любовных певцов-трубадуров, болезнью века – ученым школярством, схоластикой любви[16]. Юные дамы на провансальских «Судах Любви», corte d’amore, философствуют с ученой «любезностью», ссылаясь на Аристотеля, Платона, Аверрона, Ависенну и Боэция, не хуже старых ученых схоластиков[17].
«Чтобы философствовать, нужно любить», – скажет Данте[18]; но мог бы сказать и наоборот: «Чтобы любить, надо философствовать»; так он и скажет действительно: «Надо, чтобы философские доводы внушили мне любовь»[19].
Истинная любовь не плачет, не смеется, —
учит трубадур, Гвидо Орланди, тоже ученый схоластик любви. Мог бы, или хотел бы с этим согласиться и Данте[20]. Все, в «Новой жизни», как будто философски доказано, измышлено, измерено, исчислено; все правильно, как в геометрии. Сам бог или демон Любви – Геометр; вместо факела, в руке его, – циркуль. – «Юношу увидел я... в белых одеждах, сидевшего рядом со мной, на моей постели, и смотревшего на меня задумчиво... И он сказал мне: „Я – как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности, а ты – не так“. И я спросил его: „Зачем ты говоришь... так непонятно?“[21] Или, может быть, напротив, – слишком понятно, отвлеченно-холодно.
Но все это – как будто, а на самом деле вовсе не так. Холодно – извне, а внутри – огненно. Меряет божественный Геометр круг любви – круг вечности – циркулем, а сам «горько плачет»[22]. Плачущая «геометрия» любви, – в нежности своей почти страшная, такая же вся трепетно-живая, страстная и заплаканная, как Августинова «Исповедь»[23]. Более точной записи того, что говорит Любовь сердцу человеческому, не было никогда и, вероятно, не будет.
...Я один из тех,
Кто слушает, что говорит в их сердце
Любовь, и пишет то, что слышит[24].
Пальцы у него в чернилах, как у школяра-схоластика, но когда пишут в стихах «стройными длинными и тонкими», на него самого похожими буквами, «сладкие речи любви», то дрожат от волнения[25]. Сухо шелестят страницы пыльных, старых книг, но подымает их вещий из открытого окна, душисто-влажный, как поцелуй любви, весенний ветер. Эта юная утренняя, клейкими листочками пахнущая, «схоластика любви» – совсем не такая, какой будет потом и какой она кажется нам. Дышит сквозь нее вся прелесть и нежность, все благоухание ранней флорентийской весны, Primavera, или розово-серая туманность, жемчужность летнего утра, – та же грусть о недолговечности всех радостей земных, как в детски-испуганных, заплаканных глазах Весны Ботичелли.
Очень простой и печальный смысл «Новой жизни» можно бы выразить двумя словами: нельзя любить; здесь, на земле, в теле земном, человеку любить нельзя; нет любви, – есть похоть, в браке или в блуде, а то, что люди называют «любовью», – только напрасное ожидание, неутолимая память о том, что где-то, когда-то была любовь, и робкая надежда, что будет снова. Нет любви на земле, – есть только тень ее, но такая прекрасная, что кто ее однажды увидел, готов отдать за нее весь мир. Вот почему, в книге этой, – такая грусть и такое блаженство.
Вот как вспоминает летописец тех дней о флорентийских празднествах «Владыки Любви», signor Amore, в том же году, когда явился он впервые восемнадцатилетнему отроку Данте. «В 1283 году от Рождества Христа, в городе Флоренции, бывшем тогда в великом спокойствии, мире и благоденствии, благодаря торговле своей и ремеслам... в месяце июне, в Иванов день... многие благородные дамы и рыцари, все в белых одеждах... шествуя по улицам, с трубами и многими другими музыкальными орудиями... чествовали, в играх, весельях, плясках и празднествах, того, чье имя: Любовь. И продолжалось то празднество около двух месяцев, и было благороднейшим и знаменитейшим из всех, какие бывали когда-либо во Флоренции. Прибыли же на него и из чужих земель многие благородные люди и игрецы-скоморохи, и приняты были с великим почетом и ласкою»[26].
Вся Флоренция, в эти дни, – город влюбленных юношей и девушек, мальчиков и девочек, таких же, как Данте и Биче.
Чтобы понять, что тогда совершалось, надо вспомнить: скоро зашевелится вся земля окрестных долин и холмов от восстающих из нее мертвецов древних богов или демонов. Первым вышел бог Любви, «Владыка с ужасным лицом», и явился Данте, первому[27]. Самое ужасное в этом лице – смешение бога с демоном и сходство его то с Беатриче, то с самим Данте: это как бы чередующийся двойник обоих.
Имя ее: «Любовь», – так она похожа на меня, – скажет о Беатриче сам бог Любви[28].
«Пира» Платона Данте, вероятно, не читал, но если бы прочел, то, может быть, узнал бы самое страшное и неизреченное имя «Владыки» своего, бога или демона любви: «Андрогин», «Муже-женщина» «Данте-Беатриче». Два в Одном; это и значит: «всех чудес начало – Три», соединение Двух в Третьем.
Кажется, лучше всего увидел и понял лицо Данте, в «Новой жизни», – Джиотто, в портрете-иконе над алтарем часовни Барджелло: полузакрытые, как у человека засыпающего, или только что проснувшегося, глаза; в призрачно-прозрачном, отрочески-девичьем лице – неисцелимая грусть и покорная жертвенность, как у любящего, чье сердце пожираемо возлюбленной; губы бескровны, точно всю кровь из жил высосал жадный вампир, – «сладкий и страшный» бог-демон Любви.
V
ЕРЕСЬ ЛЮБВИ
«Я полагаю, что никогда никакой Беатриче... не было, а было такое же баснословное существо, как Пандора, осыпанная всеми дарами богов, по измышлению поэтов» – это говорит поздний, XV века, и плохо осведомленный, только рабски повторяющий Боккачио и Леонардо Бруни, жизнеописатель Данте, Джиованни Марио Филельфо[1]. Первый усомнился он в существовании Беатриче. В XIX веке сомнение это было жадно подхвачено и, хотя потом рассеяно множеством найденных свидетельств об историческом бытии монны Биче Портинари, так что вопрос: была ли Беатриче? – почти столь же нелеп, как вопрос: был ли Данте? – сомнение все же осталось и, вероятно, навсегда останется, потому что самый вопрос: что такое любовь Данте к Беатриче, история или мистерия? – относится к религиозному, сверхисторическому порядку бытия[2].
Эта часть жизни Данте освещена, может быть, самым ярким, но как бы не нашим, светом невидимых для нас, инфракрасных или ультрафиолетовых, лучей. В этой любви у всего – запах, вкус, цвет, звук, осязаемость недействительного, нездешнего, чудесного, но не более ли действительного, чем все, что нам кажется таким, – в этом весь вопрос. Но что он не существует вовсе для большинства людей, видно из того, что ближайший ко времени Данте жизнеописатель его, Леонардо Бруни, уже ничего не понимает в этой любви: «Лучше бы упомянул Боккачио о доблести, с какой сражался Данте в этом бою (под Кампальдино), чем о любви девятилетнего мальчика и о тому подобных пустяках»[3]. Это «пустяки»; этого не было и не могло быть, потому что это слишком похоже на чудо, а чудес не бывает. Ну, а если все-таки было? Здесь, хотя и в бесконечно-низшем порядке, тот же вопрос, как об историческом бытии Христа по евангельским свидетельствам: было это или не было? история или мистерия?
Любовь Данте к Беатриче, в самом деле, одно из чудес всемирной истории, одна из точек ее прикосновения к тому, что над нею, – продолжение тех несомненнейших, хотя и невероятнейших, чудес, которые совершились в жизни, смерти и воскресении Христа: если не было того, нет и этого; а если было то, есть и это.
Может быть, сам Данте отчасти виноват в том, что люди усомнились, была ли Беатриче. «Так как подобные чувства, в столь юном возрасте, могут казаться баснословными, то я умолчу о них вовсе». – «Я боюсь, не слишком ли много я уже сказал» (о Беатриче)[4].
Данте говорит о ней так, что остается неизвестным главное: есть ли она? И так, как будто вся она – только для него, а сама по себе вовсе не существует; помнит он и думает только о том, что она для него и что он для нее, а что она сама для себя, – об этом не думает. Слишком торопится сделать из земной женщины «Ангела», принести земную в жертву небесной, не спрашивая, хочет ли она этого сама, и забывая, что человеку сделаться Ангелом значит умереть; а желать ему этого значит желать ему смерти.
Кажется иногда, что не случайно, а нарочно все в «Новой жизни», как в музыке: внешнего нет ничего, есть только внутреннее; все неопределенно, туманно, призрачно, как в серебристой жемчужности, тающих в солнечной мгле, Тосканских гор и долин. Неизвестно, что, где и когда происходит; даже Флоренция ни разу во всей книге не названа по имени; вместо Флоренции, – «тот город, где обитала Лучезарная Дама души моей»; даже имя Беатриче сомнительно: «та, которую называли „Беатриче“ многие, не умевшие назвать ее иначе»[5].
Это тем удивительнее, что Данте, как видно по «Комедии», и даже по некоторым нечаянным подробностям в самой «Новой жизни», любит деловую, иногда более научную, чем художественную, точность образов, почти геометрически-сухую резкость очертаний.
Кажется иногда, что он говорит о любви своей так, как будто скрывает в ней что-то от других, а может быть, и от себя самого; чего-то в ней боится или стыдится; прячет какие-то улики, заметает какие-то следы. «Я боюсь, что слишком много сказал (о ней)...» Кажется, что прав Боккачио, когда вспоминает: «В более зрелом возрасте Данте очень стыдился того, что написал эту книгу» («Новую жизнь»)[6]. Чтобы Данте «стыдился» любви своей к Беатриче, – невероятно и похоже на клевету; но еще, пожалуй, невероятнее, что Боккачио взвел на Данте такую клевету; и тем невероятнее, что сам Данте признается: «В этой книге (в „Пире“) я хочу быть более мужественным, чем в „Новой жизни“[7]. – „Более мужественным“ значит: „менее малодушным“, – не таким, чтобы этого надо было „стыдиться“ потом. „Я боюсь, чтобы эта поработившая меня страсть не показалась людям слишком низкою“, – скажет он о второй любви своей, для которой изменит первой, – к Беатриче, но кажется, он мог бы, или хотел, в иные минуты, сказать то же и о первой любви.
О, сколько раз к тебе я приходил,
Но видел я тебя в столь низких мыслях,
Что твоего высокого ума
И сил потерянных мне было жалко...
И столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей, —
скажет ему «первый друг» его, Гвидо Кавальканти, именно в эти дни и, кажется, об этих именно днях любви его к Беатриче[8].
В чем же действительная, или хотя бы только возможная, «низость» этой как будто высочайшей и святейшей любви? В невольной или вольной, возможной или действительной лжи, – тем более грешной и низкой, чем выше и святее любовь. «Всей любви начало – в ее глазах... а конец – в устах. Но чтобы всякую порочную мысльудалить, я говорю... что всех моих желаний конец – в исходящем из уст ее приветствии[9].
Чтобы человек, молодой и здоровый, влюбленный в женщину так, что бледнеет и краснеет, завидев ее только издали, на улице, а когда она к нему подходит, – убегает, боясь лишиться чувств, – чтобы такой влюбленный, в течение семи-восьми лет, ничего от любимой не пожелал, кроме мимолетного приветствия, – этому люди никогда не поверят; верит ли сам Данте? Если верит, то тем хуже для него: вечный воздыхатель Беатриче так же смешон, как вечный воздыхатель Дульцинеи; или еще смешнее, потому что Данте – не Дон Кихот.
...Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит (Мт. 19, 12).
Помнит ли Данте это страшное слово, и если помнит, – почему не уйдет в монастырь, не оскопит духом плоть свою?
Что ему сказала Беатриче, в той мгновенной, уличной встрече, когда «слова ее коснулись впервые слуха его так сладостно», что он был «вне себя»? Может быть, всего три слова: «доброго дня, Данте». Но он успел спросить ее молча, глазами: «Можно любить?» – и прочесть в ее глазах ответ: «Можно».
Монна Биче, жена сера Симоне де Барди, позволяла ему, Данте, любить себя, как он любил ее в девушках. И не только она, – позволял и муж, зная, что эта любовь – без последствий, как у детей и скопцов.
Но сколько бы Данте ни делал Беатриче «Ангелом», он был уже и тогда слишком большим правдолюбцем, или, как мы говорим, «реалистом», чтобы не знать, что не к Ангелу в спальню входит муж, а к женщине, и чтобы не думать о том, глазами не видеть того, что это значит для нее и для него.
Очень вероятно, что бывали, в любви его к Беатриче, такие минуты, – нам неизвестные, скрытые, но, может быть, самые важные, решающие все – когда он соглашался с Гвидо Кавальканти, что жизнь его «презренна». Видя, как вельможный «меняла», Симоне де Барди, с преувеличенной любезностью кланяется ему, бедному школяру-стихоплету, он сжимал, у пояса-веревки св. Франциска, рукоять действительного, или воображаемого, ножа и чувствовал, с каким наслаждением, вонзив его в сердце врага, перевернул бы в нем трижды. Но в то же время знал, что никогда этого не сделает, и вовсе не потому, что, как св. Франциск, врагу прощает. Очень вероятно, что в такие минуты он соглашался и с Форезе Донати:
...Тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же трус презреннейший, как он.
Вот на какие раны сердца целящим бальзамом была для него вышедшая, в 1280 году, книга «О любви», De amore, Андрея Капеллана, духовника владетельной графини Марии Шампанской, чей двор, убежище всех бродячих певцов, труверов и трубадуров, сделался тогда великой «Судебной Палатой Любви», Cour d’Amour[10].
Если сам Данте и не читал книги Капеллана, то не мог хорошо не знать о ней от первого друга своего и учителя, Гвидо Кавальканти, а также от других флорентийских поэтов, творцов «нового сладкого слога», doice stil nuovo, – ее усердных читателей.
Смехом казнится брачная любовь на суде графини Марии. «Может ли быть истинная любовь между супругами?» – спрашивает Андрей Капеллан, священник, совершавший, конечно, много раз таинство брака, и отвечает: «Нет, не может»[11]. – «Брачная любовь и та, что соединяет истинных любовников, совершенно различны, потому что исходят из различнейших чувств»[12]. Истинная любовь, самая блаженная и огненная, – любовь издалека, amor da lonh»[13]. Это и значит: лучше, вопреки Павлу, «разжигаться похотью», чем вступать в брак, чтобы утолить похоть, или утишить ее, потому что никаким плотским соединением похоть не утолима, как жажда – соленой водой. «Брак не может быть законной отговоркой от любви»[14]. Здесь все опрокинуто так, что блуд становится браком, а брак – блудом. Эта новая «неземная любовь» оказывается сплошным прелюбодеянием, что не мешает законодателям ее считать себя, по слову Иоахима Флорского, пророка «Вечного Евангелия», – теми людьми, «коих пришествия ждет мир»[15].
Знал ли св. Доминик, что делает, когда, объявляя крестовый поход на еретиков альбигойцев, зажег первые костры Святейшей Инквизиции, на юге Франции, именно там, где провансальские певцы, труверы и трубадуры, полурыцари, полусвященники, в Судах Любви, возвещали миру новое «веселое знание», gaya sienzia, «любовь, радость и молодость», amors, joi e joven?[16] В те именно дни, после десяти веков смерти, ожили вдруг, сначала на славянском Востоке, а потом и на всем европейском Западе, в катарах, патаринах, альбигойцах, вальдейцах и многих других еретиках, две опаснейшие ереси двух величайших ересиархов, Монтана и Манеса[17]. В Муже воплотилось Второе Лицо Троицы, Сын, а Третье Лицо, Дух, воплотится в Жене, или Деве, или в Муже-Жене, Отроке-Деве: так учит Монтан[18]. К этому воплощению путь – неземная любовь к Прекрасной Даме – к Той, которая, для Данте, есть «Девять – Трижды Три – чудо, чей корень... единая Троица»[19]. В образе человеческом – может быть, женском или девичьем, или муже-женском, отроко-девичьем, – является Дух в «Ланчелоте-Граале», книге, погубившей Франческу да Римини и, кажется, едва не погубившей Данте[20].
Мир, лежащий во зле, создан не добрым Богом, а злым, – учит Манес[21]. Воля доброго Бога есть конец злого мира, а бесконечное продолжение его есть воля дьявола, Противобога, чье главное оружие – плотская похоть, брак и деторождение. «Плодитесь и множитесь» – заповедано всей твари не Богом, а дьяволом. Им же создано то, чем отличается мужское тело от женского. Плотская похоть есть начало греха и смерти – Древо познания: Еву познав, умер Адам. Плотский брак – такой же смертный грех, как блуд, потому что оба равно замедляют, деторождением, возврат изгнанных, живущих на земле-чужбине, душ в небесное отечество. И даже брак – больший грех, чем блуд, потому что согрешающие в блуде иногда каются, а в браке – никогда[22].