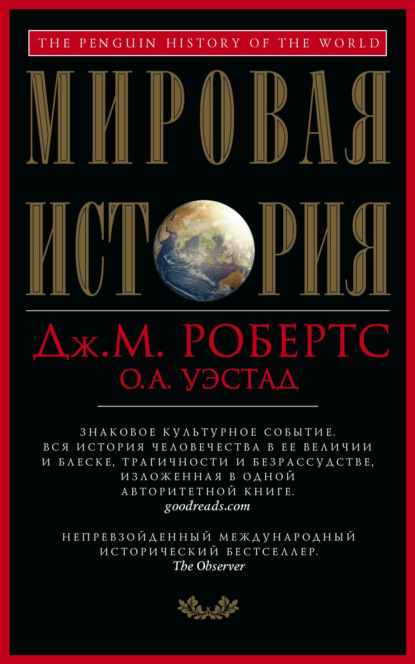По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мировая история
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Судя по литературным источникам, греческий брак и статус родителей могли предусматривать глубокие чувства и настолько же высокие взаимные отношения между мужчинами и женщинами, как и в современном обществе. Один элемент в нем, который в наше время рациональной оценке поддается с трудом, заключался в допустимости и даже романтизации мужеложства. Его существование допускалось обычаем. Во многих греческих городах для молодых мужчин высшего сословия считалось приемлемым завязывать романтические отношения с пожилыми мужчинами (примечательно, что в греческой литературе встречается намного меньше свидетельств однополой любви между мужчинами одного возраста).
В этом отношении (как во всем остальном) нам известно намного больше о поведении высшего сословия, чем о жизни основной массы греков. Гражданство, на практике охватывавшее совсем разные социальные слои, является категорией, слишком широкой, чтобы позволить себе обобщения. Даже в демократических Афинах человек, поднявшийся в общественной жизни и о котором, поэтому, мы читаем в летописях, обычно принадлежал к землевладельцам; в летопись вряд ли мог попасть торговец, тем более ремесленник. Некий ремесленник мог играть важную роль как представитель своего цеха на собрании, но едва ли он мог пробиться в руководство государством. Торговцам могли мешать издавна внушенные предубеждения греков высшего сословия, считавших торговлю и ремесло недостойными занятиями для благородного человека, который в идеале должен проводить свою жизнь в заслуженной праздности, обеспеченной доходами от принадлежащих ему земель. Такое представление перешло в европейскую традицию, вызвав важные последствия.
История греческого общества проступает в политике греческого государства. Поглощенность греков политической жизнью – жизнью полиса – и тот факт, что история классической Греции четко делится на две совершенно самостоятельные эпохи (эпоху греко-персидских войн и эпоху новой империи – Македонской), облегчают понимание важности греческой политической истории для цивилизации. На предстающей взору картине главное место принадлежит Афинам, и поэтому приходится брать на себя большой риск, называя явления, наблюдающиеся исключительно в Афинах, типичными. Часто мы склонны считать главным то, о чем нам известно больше всего, а поскольку величайшие из греков V века были афинянами и Афины числились одним из полюсов великой трагедии Пелопоннесской войны, огромное внимание ученые уделили как раз ее истории. Причем к тому же нам известно, что Афины, если ориентироваться всего лишь на два показателя, были большим городом и центром торговли; то есть мы имеем дело с нетипичным государством.
Не таким опасным с точки зрения истины видится искушение переоценить культурное значение Афин. Их культурное первенство признавалось во все времена. Хотя многие величайшие греки не были афинянами и много греков отвергали претензии афинян на превосходство, граждане Афин считали себя стоящими во главе Греции. Когда в самом начале Пелопоннесской войны Перикл заявил своим соотечественникам, что их государство являло собой образец для остальной Греции, он предался простой пропаганде, но все равно уже сложилось убеждение в справедливости того, что он сказал. Такое положение основывалось и на идеях, и на власти. Мощь флота принесла Афинам бесспорное господство в акватории Эгейского моря, и отсюда, естественно, шла дань, пополнявшая афинскую казну в V веке до н. э. Пик влияния и богатства Афин пришелся как раз на начало Пелопоннесской войны, на годы, когда творческая деятельность и патриотическое вдохновение афинян достигли предельной высоты. Гордость за расширение территории своей империи позже связали с достижениями в области культуры, которыми на самом деле пользовался народ.
Торговля, флот, идейная стойкость и демократия представляются достижениями, неразрывно и традиционно вплетенными в историю Афин V века до н. э. Практически всеми признавалось в то время, что флот в составе кораблей, приводимых в движение исключительно наемными гребцами, человек по 200 на каждом, служил одновременно инструментом имперской власти и гарантом демократии. Гоплиты в морском государстве ценились меньше, чем где-то еще, и особой необходимости в дорогостоящих доспехах для гребцов не наблюдалось. Гребцам платили из пожертвований в лиге или поступлений от успешной войны – как на это надеялись, например, при подготовке сицилийской экспедиции. Автократия пользовалась настоящей популярностью среди афинян, рассчитывающих на прибыль, пусть даже только на косвенную и коллективную, но нести ее бремя никто не хотел. Это было аспектом афинской демократии, которому уделяли большое внимание ее критики.
Демократия возникла в Афинах неожиданно, и сначала ее почти никто не замечал. Ее корни лежат в учредительных изменениях VI века до н. э., когда организующий принцип кровного родства заменили на принцип места проживания; в теории и праве, по крайней мере, отнесение к месту проживания стало важнее семьи, к которой принадлежал человек. Это изменение явно представляется общим для всей Греции, причем демократии придали отдельный правовой статус, сохраняющийся за ней с тех самых пор. Не заставили себя ждать новые изменения. К середине V века до н. э. всех взрослых мужчин обязали принимать участие в ассамблее, а через нее, тем самым, в выборах крупных административных чиновников. Полномочия Ареопага или совета старших постоянно сокращались; после 462 года до н. э. он представлял собой всего лишь судебный орган по рассмотрению определенного круга преступлений. Остальные суды в то же время оказались более восприимчивыми к демократическим веяниям через учреждение платы за отправление функций присяжного заседателя. Так как они к тому же плотно занимались административными делами, им требовалось активное участие населения в организации повседневной жизни их города. Сразу после Пелопоннесской войны, когда наступили трудные времена, за участие в ассамблее предлагали плату. Наконец, афиняне верили в выбор по жребию; его использование для назначения судей отвергало передающиеся по наследству авторитет и власть.
В основе такого установления лежит неверие в эрудицию, признанный авторитет и надежность коллективного здравого смысла. Отсюда, несомненно, проистекает относительное отсутствие интереса афинян, проявляемого к последовательной юриспруденции – допрос в афинском суде велся в основном с целью выяснения повода для правонарушения, статуса и сути, а выполнение закона отходило на второй план. Достойными политическими лидерами в Афинах считали тех, кто обладал талантом привлечь на свою сторону народ яркими речами. Достойны ли они называться демагогами или ораторами, значения не имело; они были первыми политиками, навязывавшими свою власть через убеждение толпы в своей правоте.
Ближе к концу V века до н. э., притом что такого обычным делом никак не назовешь, кое-кто из политиков пришел из-за пределов традиционного правящего класса. Сохранение роли древних политических кланов служило тем не менее важной рекомендацией демократической системы. Фемистокл в начале века и Перикл в начале Пелопоннесской войны принадлежали к старинным семьям, по своему происхождению они имели полное право даже в глазах консерваторов взять на себя бразды правления в государстве; старые правящие классы согласились смириться с демократией хотя бы в силу того, что по своему статусу пользовались полным правом на власть при ней. Эти факты как-то теряются из вида, когда люди начинают заниматься развенчанием или идеализацией афинской демократии, к тому же они всегда некоторым образом пытаются оправдать ее очевидную умеренность. Налогообложение в Афинах выглядело малообременительным, а законодательство относительно богатых, то, что мы теперь связываем с демократическим правлением, можно было назвать дискриминационным с большой натяжкой. Появление такого законодательства Аристотель назвал неизбежным результатом правления бедных.
Даже на стадии становления афинская демократия отождествлялась с риском и предприимчивостью во внешней политике. Поддержки греческих городов Азии, население которых восстало против владычества Персии, потребовала афинская общественность. Позже по понятным причинам та же общественность придала внешней политике антиспартанский уклон. Борьбу за обуздание власти Ареопага возглавил Фемистокл. Тот, который занимался строительством афинского флота, одержавшего победу под Саламином, и разглядел происходившую от Спарты после окончания греко-персидской войны опасность. Таким образом, вину за Пелопоннесскую войну и за то, что из-за этой войны обострилось дробление и раскол всех остальных городов Греции, следует всецело возложить на плечи демократии. Она не только принесла беды к воротам самих Афин, как утверждают критики греческой демократии, но и пробудила в них горечь от раскола и общественной вражды. Если на одну чашу весов добавить к тому же исключение из афинской демократии женщин, метеков и рабов, баланс окажется против нее; по современным понятиям это выглядит и узкой, и катастрофически неудачной политической системой. Но все равно не следует лишать Афины места, доставшегося им позже в глазах потомков. Легко сравнивать свой режим с отжившим прошлым да еще подходить к нему пристрастно; Афины нельзя сопоставлять с идеалами, не осознанными до конца за последовавшие две тысячи лет. Сравним их с примерами той поры. При всей живучести влияния авторитетных семей и невозможности для большинства граждан появления на каких-либо ассамблеях, созываемых по конкретным вопросам, все-таки к самоуправлению привлекалось больше афинян, чем граждан всех остальных государств. При афинской демократии в большей степени, чем при любом другом государственном устройстве, удалось освободить мужчин от политической привязанности к семье, что считается одним из великих достижений греков. Даже без права назначения всех граждан на государственную службу афинская демократия все еще могла использоваться в качестве величайшего инструмента политического просвещения, созданного к тому времени.
Но притом, что греческая демократия предусматривала участие народа в делах государства, ею к тому же поощрялась состязательность. Греки восхищались мужчинами-победителями и считали, что все мужчины должны стремиться к победе. Последовательное высвобождение физической человеческой энергии было колоссальным и к тому же опасным. Образец, выраженный широко используемым словом и переведенным не совсем верно как «мужество», служит этому иллюстрацией. Когда его произносили греки, они подразумевали людей способных, сильных и сообразительных, притом обладающих такими качествами, как справедливость, принципиальность или добродетельность в современном им смысле. Герой Гомера Одиссей часто поступал как ловкач, но проявлял при этом храбрость и незаурядный ум, потому преуспел в своем деле; за это заслужил восхищение. Проявление такого качества ставилось в заслугу; никто не учитывал возможные при этом высокие общественные издержки. Грек заботился о поддержании своего достойного восприятия в обществе; воспитанный в своей культурной среде, он боялся позора больше, чем наказания, и его страх перед позором не шел ни в какое сравнение с боязнью общественного предъявления обвинения. Некоторое объяснение чувства горечи от раскола в греческой политике как раз лежало в данной плоскости. За это не жалко было заплатить любую цену.
Достижение, сделавшее Грецию наставником всей Европы (и через нее всего мира), представляется слишком роскошным и многообразным, чтобы делать по его поводу обобщения даже в пространном и подробном исследовании; на страничке или около того вывод не сформулируешь. Однако следует обратить внимание на один существенный аспект, возникающий из него: укрепление уверенности в необходимости рационального, сознательного изыскания. Если цивилизацию считать продвижением к контролю сознания и окружающей среды на рациональной основе, то заслуга греков в этой сфере выглядит большей, чем всех их предшественников. Они поставили этот философский вопрос как частное и общее одной из величайших догадок всех времен: они утверждали возможность найти последовательное и логическое объяснение сути вещей, того, что мир, в конечном счете, объясняется совсем не бессмысленными и произвольными указаниями сверху богов или демонов. Сформулированную таким образом истину далеко не все могли ухватить или ухватили, даже не всем грекам это удалось. Эта истина с трудом пробивала себе путь в мире, пронизанном безрассудством и суеверием. Тем не менее греки предложили революционное и полезное понятие. Даже Платон, считавший невозможным, чтобы большинство людей могло разделить его мнение, согласился с этим понятием и поставил перед правителями его идеального государства задачу рационального понимания в качестве обоснования одновременно своих привилегий и дисциплины. Греки взялись за избавление общественной и умственной деятельности от бремени присутствующего в ней бессознательного начала и добились на этом поприще весьма многого, избавившего от иррациональности в жизни, как никто другой до них. При всем последовавшем искажении и мифотворчестве освободительное содержание этой эмфазы ощущалось снова и снова на протяжении нескольких тысяч лет. В этом одном уже заключалось величайшее достижение греков.
В то время как мракобесие и суеверия все еще таились во многих закоулках народного бытия, в греческом обществе стали высоко ценить всевозможные формы человеческой рассудительности. Афинский философ Сократ, благодаря своему ученику Платону обретший статус исходной личности и человека величайшего ума и оставивший потомкам в качестве максимы представление о том, что «непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой», обидел богов, почитавшихся в его государстве, и сограждане осудили его на смерть; ему вменили в вину сомнение в признанной астрономии. Но несмотря на такие важные исторические, образно говоря, осадочные философские породы, в греческой мысли ярче, чем в любой древней цивилизации, отразились изменения акцентов и стилей.
Эти изменения произрастали из собственного динамизма греческого общества и не всегда приводили к обогащению приемов воздействия на природу и само общество. Скорее греки шли на уступки, а иногда они сами оказывались в тупике и обращались к сумасбродным фантазиям. Греческую философскую мысль монолитной назвать нельзя; нам следует ее представлять не в виде блока, связывающего все его части, а как исторический континуум, распространяющийся на три или четыре столетия, в котором в разное время выступают наружу различные элементы и который с трудом поддается оценке.
Одна причина этого состоит в том, что греческие мыслительные категории – сам способ, если можно так выразиться, с помощью которого греки составляли интеллектуальную схему перед тем, как начать размышлять о ее отдельных компонентах, – нам не принадлежат, хотя часто они обманчиво похожи на наши категории. Некоторые из используемых нами категорий для греков не существовали, и со своими знаниями они проводили совсем иные границы между сферами исследования, отличными от тех, что мы считаем само собой разумеющимся.
Иногда это выглядит очевидным и не вызывает затруднений; когда философ, например, выделяет управление домашним хозяйством и его земельным владением (экономикс) как сферу исследования предмета, который нам надлежит назвать политикой, нам не составит труда его понять. При рассмотрении тем более абстрактных у нас могут возникать затруднения.
Один пример следует привести из греческой науки. Для нас наука выглядит доступным способом приближения к пониманию материального мира с применением методов практического эксперимента и наблюдения. Греческие мыслители нашли подход к природе материального мира через отвлеченные соображения, через упражнения в метафизике, логике и математике. Говорят, что греческая рассудительность в конечном счете встала на пути научного прогресса, потому что исследователи прибегали к логической и отвлеченной дедукции, а не занимались наблюдением природы. Среди великих греческих философов один только Аристотель уделял достаточно внимания сбору и классификации данных, но делал он это по большей части только при проведении своих социальных и биологических исследований. Тем самым он обосновал одну из причин того, что историю греческой науки не стоит совсем отделять от философии. Эти философы в целом представляют собой продукт существования множества городов и череды событий за четыре столетия или около того.
С их появлением в человеческой мысли происходит революция, а когда там появляются древнейшие греческие мыслители, о которых мы располагаем информацией, эта революция уже случилась. В VII и VI веках до н. э. они жили и творили в ионийском городе Милете. Актуальная интеллектуальная деятельность продолжалась там и в остальных ионийских городах вплоть до замечательной эпохи афинского абстрактного теоретизирования, начавшегося с Сократа. Несомненно, важную роль сыграл стимул азиатского происхождения, большое значение имел и тот фактор, что Милет был богатым городом – древние мыслители явно относились к людям состоятельным и могли себе позволить тратить время на отвлеченные размышления. Как бы то ни было, с опорой на Ионию прокладывается путь из древности к разнообразной интеллектуальной деятельности, распространившейся со временем на весь греческий мир. Западные поселения в Magna Graecia (Великой Греции) и Сицилии сыграли решающую роль во многих событиях VI и V веков до н. э., и первенство в более поздней эллинистической эпохе должно было перейти к Александрии. Весь греческий мир в целом принимал участие в достижении успеха греческого образа мысли, и даже большой эпохе афинского сомнения в его пределах не стоит придавать излишнего значения.
В VI веке до н. э. философы Милета Фалес и Анаксимандр начали здравое теоретизирование по поводу природы мира, показавшее, что решающая граница между мифологией и наукой преодолена. Египтяне в свое время приступили к прагматической переделке природы и в ходе этого процесса получили массу логических знаний, а в заслугу вавилонянам следует поставить важные измерения. Представители милетской школы с толком воспользовались добытыми ими знаниями и к тому же смогли взять на вооружение более фундаментальные понятия космологии, унаследованные от прежних цивилизаций; считается, что философы Милета видели происхождение земли из воды. Причем ионийские философы в скором времени пошли дальше приобретенного ими наследия. Они разработали общие воззрения на сущность Вселенной, которые пришли на смену мифологии в виде беспристрастного толкования. Такая замена производит более глубокое впечатление, чем тот факт, что конкретные ответы, предложенные ими, в конце-то концов оказались бесполезными. Примером можно привести анализ греков, посвященный природе материи. Хотя общие черты атомистической теории появились за две с лишним тысячи лет до наступления ее времени, от нее отказались к IV веку до н. э. в пользу представления, основанного на взглядах ранних ионийских мыслителей, считавших, что вся материя состоит из четырех «элементов» – воздуха, воды, земли и огня, соединяющихся в веществах в различных пропорциях. Эта теория вплоть до Ренессанса служила лекалом для придания контуров западной науке. Она сыграла огромную историческую роль, так как по ней устанавливались пределы и определялись возможности. К тому же все это, разумеется, оказалось большим заблуждением.
Такой вывод стоит помнить в качестве вторичного соображения к главному пункту. Философы из Ионии с основанной ими школой заслужили благодарность потомков за то, что потом совершенно справедливо назвали «ошеломительной» новизной. В своем понимании природы они отодвинули в сторону богов и нечистых духов. Время не пощадило часть того, что они сделали, и это приходится признать. В Афинах в конце V века до н. э. нечто большее, чем временная тревога перед лицом поражения и опасности, просматривалось в попытках осуждения в качестве богохульных взглядов, гораздо более умеренных, чем те, что пропагандировались ионийскими мыслителями двумя столетиями раньше. Один из них сказал: «Если бы телец мог нарисовать картину, его бог выглядел как телец»; несколько веков спустя каноническая средиземноморская цивилизация утратила большую часть такого восприятия действительности. Его появление в древности представляется самым наглядным признаком живучести греческой цивилизации.
Подобные передовые представления тонули не только в широко распространенном суеверии. Свою роль играли прочие тенденции в становлении философской мысли. Одна из них сосуществовала с ионийской традицией в течение долгого времени, к тому же ей была уготована судьба прожить дольше и не утратить своего влияния. Главной загвоздкой для ее носителей было обоснование положения о нематериальности бытия; что, как позже Платон выразился в одном из своих самых убедительных высказываний, в жизни мы воспринимаем только изображения чистых Форм и Идей, которые являются небесными воплощениями истинной действительности. Такую действительность можно было осознать только посредством размышления, причем не только путем систематических предположений, но и к тому же интуиции. При всей отвлеченности у такого рода мысли имелись свои корни в греческой науке, если и не в предположениях ионийцев о веществе, то в трудах математиков.
Некоторые их величайшие достижения приходятся на время после смерти Платона, когда практически оформится единственный крупнейший триумф греческой мысли, которым считается учреждение арифметики и геометрии, служивших западной цивилизации вплоть до XVII века. Каждому школьнику, как правило, известно имя Пифагора, жившего в Кротоне на юге Италии в середине VI века до н. э. и, можно сказать, обосновавшего метод дедуктивного доказательства. К счастью или несчастью, на этом его достижения не заканчиваются. Наблюдая за вибрирующей струной, он открыл математическое обоснование гармонической функции, но особенно его интересовало соотношение чисел и геометрия. К ним он выбрал полумистический подход; как и многие математики его времени, Пифагор относился к верующим в Бога людям, и говорят, что успешное завершение доказательства своей знаменитой теоремы он отметил приношением в жертву тельца. Представители его школы – в свое время существовало «Пифагорейское братство» – позже пришли к заключению о том, что изначальная природа мироздания есть по сути явление математическое и числовое. «В их представлении принципы математики служили принципами всех вещей», – несколько неодобрительно утверждал Аристотель, хотя его собственный учитель Платон находился под сильным влиянием такого заблуждения, а также скептицизма пифагорейца начала V столетия до н. э. Парменида по поводу мира, познаваемого органами чувств. Цифры выглядели привлекательнее материального мира; они обладали одновременно заданным совершенством и относительностью Идеи, в которой воплощалась действительность.
Пифагорейское влияние на греческую мысль представляет собой многомерный предмет для изучения; к счастью, он не требует подведения итога. Главное заключается в негативных последствиях для формирования представлений о Вселенной, носители которых ориентировались на математические и дедуктивные принципы, а не на наблюдения. Поэтому на протяжении без малого двух тысяч лет они держали астрономию на ложных путях. От них пошло видение Вселенной, построенной из последовательно перекрывающих друг друга сфер, на которые поместили Солнце, Луну и планеты, движущиеся по заранее заданной траектории вокруг Земли. Греки заметили, что в реальности небесные тела перемещались несколько иначе. Но очевидные вещи они пытались объяснять новыми уточнениями в ложную в своей основе схему, и древние математики при этом уклонялись от тщательного исследования принципов, из которых все это выводилось. Окончательно доработанная греческая математическая теория мироздания увидела свет во II веке н. э. в трудах знаменитого александрийца Птолемея. Усилия Птолемея получили достойную оценку современников, а возражения поступили от совсем немногочисленных раскольников (то есть в греческой науке могли появиться и иные интеллектуальные результаты). При всех признаках несостоятельности системы Птолемея она позволяет делать предположения по поводу движения планет, положение которых все-таки служило точными ориентирами для прокладки курса судов в океане в эпоху Колумба, пусть даже тогдашние корабелы опирались на ложные представления.
Теория четырех элементов и развитие греческой астрономии служат иллюстрацией дедуктивного уклона греческой мысли и присущей ей слабости – ее представители стремились к созданию правдоподобной теории, объясняющей самый широкий спектр знаний без проверки их практическим экспериментом. В эту теорию греки попытались втиснуть все сферы мыслительной деятельности, которые, как мы теперь полагаем, должны объясняться наукой и философией. Плодами поборников данной теории, с одной стороны, стал аргумент в пользу беспрецедентной неукоснительности и проницательности, а с другой стороны, абсолютное неверие в чувственные данные. Только греческие лекари пятого столетия, возглавляемые Гиппократом, достигли многого за счет эмпиризма.
В случае с Платоном – на беду или на счастье контуры философской дискуссии в целом определил он и его ученик Аристотель, а не кто-либо еще – этот уклон мог получить подкрепление его по большому счету пренебрежением ко всему, что он видел собственными глазами. Аристократ по происхождению, афинянин Платон отвернулся от мира прозаических дел, в которых он надеялся принять участие, уже разочарованным вершителями политики афинской демократии и, в частности, их обращением с Сократом, которого они осудили на смерть. От Сократа Платон перенял не только его пифагорейство, но и идеалистический подход к проблемам нравственности, а также метод философского научного изыскания. Добро, считал он, постигается методом поиска и интуицией; так диктовала действительность. «Добро» Платон назвал величайшим из «понятий», стоявших в ряду «Правды, Красоты и Справедливости». На самом деле они не были понятиями в том смысле, что в любой момент у них существовала форма в чьем-либо сознании (иначе говоря, кто-то мог бы сказать, что «у меня есть представление о том-то»). Однако они представляли собой реальные явления, на самом деле существующие в мире конкретном и вечном, элементами которого являлись эти представления. Этот мир неизменной действительности, считал Платон, был скрыт от людей чувствами, обманывающими их и толкающими на неверный путь. Зато он был доступным для души, способной осознать его при помощи рассудка.
Такие представления имели значение, далеко выходящее за пределы формальной философии. В них (как и в доктринах Пифагора) можно найти, например, следы знакомой нам появившейся позже идеи, фундаментальной для пуританцев, согласно которой человеческая натура делится на противоречивые составляющие в виде души, божественного происхождения, и физического тела, в котором все это заключено. Результатом борьбы этих трех начал должно стать не примирение, а победа одного из них. Такое представление сути человека во многом определит сущность грядущего христианства. Сразу за этим у Платона возникло острое прагматичное беспокойство, так как он полагал, что познание совершенного мира могло бы помочь изменить в действительности условия, в которых жили люди. Он сформулировал свои взгляды в серии диалогов между Сократом и людьми, посещавшими его для обмена мнениями. Так появились первые учебники философских воззрений, и труд, который мы называем «Республика», считается первой книгой, в которой изложена схема общества, направленного на достижение высшей нравственной цели. В этой книге описывается авторитарное государство (напоминающее Спарту), в котором браки будут регулироваться ради достижения у потомства самых позитивных наследственных качеств, прекратят существование семья и частная собственность, культуру и искусство будут подвергать строгой цензуре, а образование тщательному надзору. Те немногие, кому предстоит управлять таким государством, должны обладать достаточными интеллектуальными и нравственными качествами, чтобы овладеть знаниями, которые позволят им создать справедливое общество, на практике постигая совершенный мир. Наравне с Сократом Платон считал, что мудрость заключается в понимании действительности, и пришел к такому выводу: чтобы увидеть правду, следует сделать невозможными поступки, идущие вразрез с нею. В отличие от своего учителя он полагал, что для большинства людей образование и законы должны наложить запрет на то, что Сократ считал неисследованной жизнью, которую не стоит вести.
«Республика» и приведенные в ней аргументы стали поводом для продолжавшихся несколько веков обсуждений и подражаний, и такой же была реакция практически на все труды Платона. Как выразился английский философ XX века, почти вся последующая философия на Западе состояла из повторов и ссылок на Платона. Несмотря на отвращение Платона к тому, что он наблюдал вокруг себя, и предубеждения, порожденные всем этим, он предвосхитил практически все великие вопросы философии, будь то касающиеся нравов, эстетики, основы знания или природы математики. К тому же он изложил свои представления в крупных произведениях литературы, которые люди всегда читали с удовольствием и волнением.
Академия, которую основал Платон, обладала полным правом считаться первым университетом. Из ее дверей вышел его ученик Аристотель, мыслитель более всесторонний и уравновешенный, отличавшийся большей верой в возможности сущего и меньший авантюрист, чем его учитель. Аристотель никогда не пытался развенчать учение своего наставника, но позволил себе отступление от него по принципиальным направлениям. Он весьма преуспел в сборе и классификации сведений (особенно его интересовала биология) и, в отличие от Платона, не отрицал чувственного опыта. Действительно, он искал одновременно надежные знания и счастье в практическом мире, отклоняя при этом понятие универсальных идей и вынужденно переходя от фактов к общим законам. Аристотель относился к таким всесторонним мыслителям и интересовался столь широким спектром практической жизни, что его историческую роль так же сложно поместить в рамки, как влияние Платона. В своих трудах он обозначил пределы поля для обсуждения в области биологии, физики, математики, логики, литературной критики, эстетики, психологии, этики и политики на предстоявшие две тысячи лет. Он наметил направления овладения этими предметами и подходы к ним, которые представлялись гибкими и в конечном счете достаточно просторными, чтобы вместить в себя христианскую философию. Он к тому же основал науку о дедуктивной логике, которая прослужила людям до конца XIX столетия. Ему приписываются великие достижения, отличающиеся по сути, но такие же важные, как достижения Платона.
Политическое мышление Аристотеля в известном смысле совпадало с воззрениями Платона: город-государство представлялся им наиболее подходящей формой общественного существования, Аристотель видел необходимость ее реформирования и очищения для функционирования должным образом. Но за пределами данного пункта его воззрения далеко расходились с позицией наставника. Аристотель предполагал надлежащее функционирование полиса таким образом, чтобы каждый гражданин получал соответствующую его положению роль, и в этом, по сути, заключался вопрос, решение которого привело бы жителей большинства существующих государств к счастью. При формулировании ответа он использовал греческую идею, которой его учение должно было дать долгую жизнь, то есть понятие «усреднения», означавшее то, что совершенство находится в равновесии между крайностями. Эмпирические факты это подтверждали, и Аристотель собрал таких доказательств больше, чем, как нам представляется, это сделал кто-либо из его предшественников; но он выступал за примат фактов при обращении с обществом, а его ждало еще одно греческое изобретение в образе истории.
Так что разберемся с очередным крупным достижением греков. В большинстве стран истории предшествуют хроники или летописи, предназначенные для регистрации событий в их последовательности. В Греции все обернулось иначе. Исторические писания на греческом языке появились благодаря поэзии. Поразительно то, что этот литературный стиль достиг своего высшего уровня в его первых воплощениях – в двух книгах мастеров, не имевших равных среди последователей. Первого из них – Геродота – с полным на то основанием назвали «отцом истории». Само слово – historia – существовало еще до его рождения и означало «исследование». Геродот придал ему дополнительное значение: исследование событий во времени и письменная регистрация результатов в произведении искусства прозы на первом дошедшем до нас европейском языке. Им двигало желание понять близкий к его современности факт великой войны с Персией. Он собрал информацию о персидских войнах и предшествовавших им событиях, прочитав огромную массу доступной ему литературы, опросив людей, встретившихся на пути во время его путешествий, а потом усердно записал все, что ему рассказали и что сам прочитал. Впервые все эти сведения стали предметом системного анализа, а не просто хроники. В результате появился труд Геродота под названием «История» в восьми томах, представляющий собой замечательное повествование, посвященное Персидской империи, с встроенной в него обширной информацией о ранней греческой истории и своего рода мировым обзором, сопровождаемым летописью персидских войн вплоть до битвы при Микале. Геродот родился (так традиционно утверждают) в дорийском городе Галикарнасе в юго-западной части Малой Азии в 484 году до н. э., и большую часть своей жизни он посвятил путешествиям. В какой-то момент он прибыл в Афины, где остановился на несколько лет в статусе метека, и во время пребывания в этом городе его могли наградить за публичные декламации своих трудов. Потом он отправился в новую колонию, основанную в Южной Италии; там он закончил свой труд и умер в начале 430-х годов до н. э. Следовательно, он на собственном опыте приобрел кое-какие знания о территории греческого мира, а также посетил Египет и множество других государств. Таким образом, в основу его труда лег богатый личный опыт, изложение тщательно отобранных сообщений очевидцев, хотя Геродот иногда относился к своим рассказчикам с излишней доверчивостью.
Обычно признается, что одно из преимуществ творчества Фукидида, считавшегося величайшим из преемников Геродота, заключается в его более строгом подходе к изложению фактов истории и попытках подавать их в критическом ключе. В результате достижение его интеллекта производит более благоприятное впечатление, хотя на фоне строгости изложения очарование трудов Геродота доставляет большее эстетическое удовольствие. Предметом исследования Фукидид выбрал событие, случившееся ближе к его времени, – Пелопоннесскую войну. В таком выборе нашли отражение глубокое личное участие и некая новая концепция: Фукидид принадлежал к ведущему афинскому роду (он служил военным начальником, но подвергся опале за провал порученной ему операции), а жизнь свою посвятил поиску причин, приведших его город и Грецию к ужасному поражению. Он разделял с Геродотом его практические мотивы, побуждавшие к труду, считал (как и почти все греческие историки после него), что все им обнаруженное будет обладать прагматической ценностью, поэтому стремился не просто описывать исторические события, а еще и пытался дать им объяснение. В итоге он оставил потомкам одно из самых ярких произведений исторического анализа, среди когда-либо созданных в мире, и первым попытался представить многогранные и разносторонние толкования событий. В процессе работы над своим трудом он предложил будущим историкам модель беспристрастного суждения, ведь его пристрастное отношение к Афинам читателю практически не навязывается. Книга осталась неоконченной – повествование доходит только лишь до 411 года до н. э. – но общий вывод автора выглядит лаконичным и точным: «Укрепление мощи Афин и страх со стороны Спарты послужили, по моему мнению, причиной, подтолкнувшей эти государства к войне».
Изобретение истории само по себе служит свидетельством выхода литературы, созданной греками, на новый интеллектуальный уровень. Мы имеем дело с первым завершенным диапазоном, известным человечеству. Еврейская литература выглядит практически такой же всеобъемлющей, однако в ней отсутствуют такие жанры, как драма и критическая история. Не будем упоминать более легкие жанры. Но греческая литература делит с Библией первенство с точки зрения формирования контуров всего последующего писательского творчества. Наряду с положительным содержанием своей литературы греки определили ее главные формы и исходные темы для критики, по которым можно судить о литературных произведениях.
С самого начала, если судить по Гомеру, греческие авторы тесно связывали свое творчество с религиозными верованиями и нравственными учениями. Поэт Гесиод, предположительно живший в конце VIII века до н. э. и по традиции считающийся первым стихотворцем постэпического периода, сознательно обратился к проблеме справедливости и природы богов. Тем самым он подтвердил традиционное мнение о том, что литература представляет собой нечто больше, чем просто развлечение, и поднял одну из основных тем греческой литературы, обсуждавшуюся на протяжении последующих четырех веков. Греки всегда будут смотреть на поэтов как на своего рода наставников, ведь их творчество пронизано мистическими скрытыми намеками и вдохновением. У греков будет много поэтов, и возникнет множество стилей поэзии на греческом языке. Первый такой стиль, поддающийся вычленению, относится к личным переживаниям. Он отвечал вкусам аристократического общества. Но когда с наступлением в VII и VI веках до н. э. эры тиранов в большую моду вошло личное покровительство, это явление постепенно вышло на коллективную и гражданскую арену. Тираны сознательно поощряли проведение всевозможных публичных праздничных мероприятий, которые должны были послужить продвижению в массы величайших образцов греческого литературного искусства в форме трагедий. Происхождение драмы коренится в религии, и ее элементы должны были присутствовать в каждой цивилизации. Первым театральным представлением был обряд молитвы. В данном случае достижение греков заключалось в побуждении аудитории к сознательному восприятию происходящего на сцене; от этой аудитории ожидалось нечто большее, чем послушное смирение или разнузданная одержимость. В представлении заключался нравоучительный посыл.
Первые греческие драмы приняли форму дифирамба в виде хорового пения, посвященного празднику Диониса, сопровождаемого танцем и пантомимой. В 535 году до н. э., как нам известно, этот жанр подвергся коренному обновлению, когда Феспид ввел в представление отдельного актера, речь которого звучала неким антифоном хоровому пению. С дальнейшими нововведениями появлялось все больше актеров, и через сотню лет мы получаем полноценные, зрелые театры Эсхила, Софокла и Эврипида. Из их постановок до наших дней дошло 33 пьесы (с учетом одной полноценной трилогии), но нам известно, что в V веке до н. э. в Греции исполнялось больше 300 разнообразных трагедий. В греческой драме все еще сохраняется религиозный подтекст, хотя не столько в словах, как в мизансценах, в которых они произносились. Великие трагедии иногда исполнялись в виде трилогий на публичных праздничных мероприятиях, участниками которых становились граждане, уже знакомые с основными сюжетами (часто мифологическими), которые они собирались посмотреть в игровой форме. При этом подразумевался просветительный момент. Вероятно, большинство греков никогда не видели постановку Эсхила; конечно же их было бесконечно малое число по сравнению с количеством современных англичан, видевших пьесы В. Шекспира. Как бы то ни было, на такие представления собиралась огромная аудитория народа, не слишком занятого на своих земельных наделах или не находящегося в дальнем путешествии.
Больше людей, чем в любом другом древнем обществе, тем самым поощрялось к тщательному исследованию и размышлению над содержанием их собственного нравственного и общественного мира. От народа ожидалось, что он осознает скрытые акценты знакомых обрядов, сделает новый выбор их значения. Именно эту возможность дали своему народу великие драматурги Греции, даже если в некоторых своих пьесах они заходили достаточно далеко, а иногда даже, в подходящие моменты, высмеивали признанные в обществе святыни. Речь, разумеется, идет не о представленных натуралистических сценах, а о функционировании законов героического, традиционного мира и их мучительного воздействия на людей, попавших в молох этих законов. Во второй половине V века до н. э. Эврипид даже начал использовать обычную форму трагедии в качестве средства для развенчания воззрений на то, что считалось приличным; тем самым он внедрил приемы, которые в западном театре используют современные нам и столь разные авторы Н.В. Гоголь и Г. Ибсен. Рамки, ограниченные замыслом, тем не менее всем знакомы, и в его сердцевине лежало признание авторитета неумолимого закона и неотвратимого возмездия. Само допущение такого условия можно считать свидетельством особенности иррациональной, а не рациональной стороны греческого сознания. Все-таки было еще далеко от состояния сознания, когда паства восточного храма в ужасе или с надеждой наблюдала за очередным представлением неизменного ритуала с жертвоприношением.
В V веке до н. э. разнообразие театральных жанров расширялось еще по некоторым направлениям. Это случилось, когда в самостоятельный жанр развилась аттическая комедия, и нашелся Аристофан, ставший первым великим постановщиком развлечений для зрителей с помощью манипулирования людьми и событиями. Он подбирал для своих постановок особый материал: часто на политические темы, почти всегда в высшей степени актуальный, и частенько подавал его в непристойном виде. Факт того, что Аристофан не просто выжил, но и пользовался успехом, служит для нас самым наглядным свидетельством терпимости и свободы нравов афинского общества. Спустя 100 лет греки практически подошли к современному миру с точки зрения манеры лицедейства по поводу интриг рабов и несчастных любовных отношений. Речь не о влиянии Софокла, но греческая пьеса все еще удивляет и представляется практически чудом, ведь за 200 лет до этого ничего подобного не существовало. Стремительность, с какой греческая литература развилась после завершения периода эпической поэзии, и ее непреходящий авторитет служат доказательством предрасположенности греков к новаторству и умственному росту, которые легко признавать, даже когда не получается объяснить.
В конце классической эпохи греческой литературе все еще предстояла долгая жизнь, наполненная важными событиями, когда исчезли города-государства. У нее росло число поклонников, так как греческому языку суждено было стать одновременно языком общения и официальным языком на всем Ближнем Востоке и практически повсеместно в Средиземноморье. Ему не грозило снова пережить высоты афинской трагедии, зато на нем были созданы настоящие литературные шедевры. Ощущение заката видов изобразительного искусства представляется более очевидным. В этом направлении сверх монументальной архитектуры и обнаженной фигуры Греция снова установила стандарты для грядущих поколений. Из первых заимствований в Азии развилась совершенно невиданная до тех пор архитектура – классический стиль, элементы которого все еще сознательно повторяются, даже в лаконичных конструкциях строителей XX века. На протяжении нескольких сотен лет этот стиль распространился по большой части мира от Сицилии до Индии; в этом искусстве греки тоже выступили в роли поставщиков культуры остальным народам.
Им повезло с точки зрения геологии, ведь недра Греции богаты строительным камнем высокого качества. Его долговечность проверена сохранившимся великолепием реликвий, которыми мы любуемся сегодня. И все-таки нам не удается избежать некоторой иллюзии. Чистота и строгость, с которыми Афины V века до н. э. предстают перед нами в образе Парфенона, скрывают их видение глазами грека. До нас не дошли аляповатые статуи богов и богинь, разноцветные краски, охра и беспорядочно расставленные монументы, алтари и стелы, которые должны были загромождать Акрополь и лишали его храмы нынешней строгости. На самом деле многие крупные греческие центры могли больше напоминать, скажем, современный Лурд; при приближении, например, к храму Аполлона в Дельфах могло возникать такое впечатление, что его загромождают неопрятные мелкие алтари, там толпились купцы, гнездились лотки и валялся мусор, в который превратились подношения идолам (хотя нам следовало бы сделать скидку на вклад, внесенный археологами с их фрагментарными открытиями).
Тем не менее после всех оговорок обратим внимание на разрушение временем, в результате которого возникла красота формы, практически непревзойденная красотой рукотворной. При этом не приходится говорить о какой-либо скидке на взаимосвязь суждения об объекте со стандартами, которые происходят исключительно из объекта как такового. Остается совершенно справедливым то, что создание произведения искусства, настолько глубоко и мощно говорящего о человеческом разуме на протяжении стольких поколений, само по себе не поддается простому толкованию, разве что его можно приводить в качестве доказательства непревзойденного творческого величия и поразительного мастерства в придании ему выразительности.
Такое качество к тому же представлено в греческой скульптуре. В ней свою роль сыграло наличие достойного по качеству камня, а также влияние восточных, часто египетских, скульптурных образцов. Как и гончарное ремесло, однажды позаимствованные восточные образцы скульптуры эволюционировали в направлении большего натурализма. Высшим сюжетом греческих скульпторов служила человеческая фигура, изображаемая уже не ради увековечения, а ради самого ее совершенства. Опять же, приходится только верить в законченный вид статуи, которую видели греки; эти изваяния часто покрывали позолотой, краской или декорировали слоновой костью и драгоценными камнями. Некоторые изделия из бронзы кто-то похитил или расплавил, поэтому нынешнее преобладание каменных резных фигур может само по себе вводить в заблуждение. Зато их внешний вид служит доказательством очевидной эволюции мастерства ваятелей. Мы начинаем со статуй богов, а также молодых людей и женщин, живые прототипы которых часто нам неизвестны, просто и симметрично представленных в позах, напоминающих статуи с Востока. В классических изваяниях V века до н. э. их натурализм начинает говорить о неравномерном распределении веса и отказе от простого положения анфас. Развитие ремесла идет в направлении зрелого, человеческого стиля Праксителя и IV века до н. э., в котором впервые отображается человеческое тело, обнаженная женская фигура.
Великая культура представляется большим, чем простой экспонат музея, и никакую цивилизацию нельзя втиснуть в выставочный каталог. При всем их элитарном качестве достижение и роль Греции осознаны во всех сторонах жизни; они включают политику города-государства, трагедию Софокла и статуи Фидия. Представители последующих поколений осознали это интуитивно, счастливо неосведомленные о добросовестной дискриминации, которой ученые-историки в конечном счете подвергли различные периоды истории и места исторических событий. Они совершили весьма плодотворную ошибку, потому что в конечном счете вклад Греции в культуру будущего стали ценить ровно настолько высоко, насколько она того заслуживала. Значение исторического опыта Греции пришлось пересматривать заново и давать ему иное толкование, а Древнюю Грецию открывали заново и повторно оценивали, так что на протяжении двух с лишним тысяч лет Греция рождалась заново. Снова использовался ее опыт, и каждый раз по-разному. Во всех случаях, когда действительность отставала от более поздней идеализации, и при всей силе ее связей с прошлым греческая цивилизация весьма объективно служила самым важным инструментом познания человечеством его судьбы в древности. На протяжении четырех веков греки успели изобрести философию, политику, практически полную арифметику и геометрию, а также категории западного искусства. Этого было бы достаточно, даже если их ошибки тоже не были такими плодотворными. Европа начислила проценты на капитал Греции, заложенный с тех пор, и через Европу остальная часть мира вела дела по тому же самому счету.
3
Мир эллинов
В истории Греции после V века до н. э. произошло множество причудливых зигзагов, но самым поразительным из них можно назвать то, как греческая цивилизация внедряла и придавала направление имперским мечтам о монархии, которую кое-кто называл совсем не греческой, а македонской. Во второй половине IV века до н. э. на основе этого государства, располагавшегося на севере Греции, образовалась величайшая за всю историю человечества империя, унаследовавшая территории и Персии, и всех греческих городов-государств. Мир этой империи мы называем эллинским, так как преобладающей и объединяющей его силой служила культура, греческая по духу и языку. Именно македонцы принесли миру греческую культуру посредством поразительных завоевательных походов их императора IV века до н. э. Александра.
Рассказ наш начинается с заката авторитета Персии. Персидское возрождение в союзе со Спартой на время скрыло непреодолимые внутренние слабости этой империи. Одна из них увековечена в известном сочинении Ксенофонта под названием «Анабасис», посвященном протяженному маршу армии греческих наемников обратно домой вверх по реке Тигр и через горы к Черному морю после неудачной попытки притязания на персидский престол со стороны брата царя. Тот поход выглядит мелким и второстепенным эпизодом на фоне общего заката персидской империи, порождением одного частного проявления внутреннего раскола. На протяжении всего IV века до н. э. эту империю не оставляли проблемы, когда область за областью (среди них Египет, который уже в 404 году до н. э. добился независимости и пользовался ею в течение 60 лет) уходили из-под ее власти. Крупный мятеж западных сатрапов вызревал долгое время, и, хотя императорское правление в конечном счете удалось восстановить, далось это восстановление большой ценой. Власть персы сумели вновь навязать, но правили персы подчас без должной напористости.
Одним из правителей, соблазнившимся возможностями такого ослабления персов, был Филипп II Македонский, правивший далеко не могущественным царством, власть которого держалась на воинской аристократии. В этом царстве сложилось грубое, жестокое общество; его правители все еще напоминали военачальников времен Гомера, их власть опиралась больше на личное могущество, чем на атрибуты государства. Принадлежность данного государства к греческому миру вызывала большие сомнения; многие греки считали македонцев варварами. Вместе с тем их цари претендовали на происхождение из греческих родов (один из которых восходил к Гераклу), и их претензии обычно признавались. Сам Филипп тоже хотел укрепить свое общественное положение; он требовал считать мифологического Македона греком. Когда в 359 году до н. э. его назначили регентом малолетнего правителя Македона (Македонии), он приступил к последовательным территориальным приобретениям за счет других греческих государств.
Единственным объяснением своей экспансионистской политики Филипп II считал собственное войско, которое к концу его правления превратилось в самую совершенную по степени обученности и организации армию в Греции. По сложившейся в Македонии воинской традиции главная роль на поле боя отводилась коннице, закованной в тяжелую броню, и она продолжала служить главным родом войск. Традиционную военную науку Филипп обогатил опытом использования пеших воинов, который он приобрел в юности, когда находился заложником в Фивах. Из тактики гоплитов он позаимствовал новый боевой порядок, представлявший собой фалангу из 16 шеренг воинов, вооруженных длинными пиками. Воинов для такого боевого порядка вооружали пиками, которые были в два раза длиннее копий гоплитов, и действовали они в более рассредоточенном строю, когда пики воинов второй и третьей шеренги направляли между фалангистами для придания гораздо большей плотности убойных наконечников при переходе в атаку. Еще одно преимущество македонцев заключалось в освоении ими приемов осады укреплений, неизвестных остальным греческим армиям; они располагали катапультами, с помощью которых вынуждали защитников осажденного города уходить в укрытие, а сами в это время вводили в дело тараны и осадные башни на колесах. Такую технику до них применяли только в армиях Ассирии и их азиатских наследников. Наконец, Филипп правил весьма состоятельным государством, его богатства значительно возросли, когда он владел золотыми рудниками на горе Пангей, хотя он так сильно потратился, что после него остались огромные долги.
Он пользовался своей властью в первую очередь ради надежного объединения Македонии. За считаные годы младенца, регентом при котором его назначили, свергли с престола, а Филиппа избрали царем. Тогда он начал посматривать на юг и северо-восток. Экспансия в тех направлениях рано или поздно вела к посягательству на интересы Афин и наступлению на их позиции. Союзники афинян на Родосе, Косе, Хиосе и из Византии воспользовались македонским покровительством; остальные, то есть Фокида, потерпели поражение в войне, к которой ее подстрекали Афины, но не оказали достойную поддержку. Хотя Демосфен как последний великий агитатор афинской демократии обеспечил себе место в истории (до сих пор мы связываем его со словом «филиппики») тем, что предупредил своих соотечественников о грозящих им опасностях, спасти их он не смог. Когда война между Афинами и Македонией (355–346 гг. до н. э.) наконец-то закончилась, Филипп не только получил в свое распоряжение Фессалию, но и утвердился в Центральной Греции, а также взял под свой контроль проход Фермопилы.
Для него складывалась благоприятная ситуация с реализацией замыслов по Фракии, и при этом подразумевалось возвращение греческого интереса к Персии. Один афинский писатель выступил в пользу проведения греческого крестового похода, чтобы воспользоваться ослаблением Персии (в противоположность Демосфену, продолжавшему осуждать действия македонского «варвара»). И снова разрабатывались планы по освобождению азиатских городов. Такое предложение выглядело достаточно привлекательным, чтобы принести плоды в рядах инертного Коринфского союза, сформированного в 337 г. до н. э. из крупнейших греческих государств без участия Спарты. Филипп числился его председателем и военачальником, и он в чем-то напоминал Делосский союз; внешняя самостоятельность его участников служила всего лишь ширмой, так как все они числились македонскими сателлитами. Создание этого союза стало кульминацией правления Филиппа (в следующем году на него будет совершено покушение), но воплощение в реальность дела его жизни произойдет только после нового разгрома македонцами афинян и фиванцев в 338 году до н. э. Условия мира, навязанного Филиппом, были сносными, но участникам Коринфского союза пришлось согласиться пойти войной на Персию под македонским руководством. После смерти Филиппа греки еще раз попытались напомнить о своей независимости, но его сын и наследник Александр сокрушил греческих мятежников, как делал это с остальными повстанцами в других частях его царства. Фивы он приказал тогда (335 год до н. э.) стереть с лица земли, а их население обратить в рабство.
Так опустился занавес четырехвековой драмы греческой истории. За этот период времени удалось сотворить цивилизацию и поселить ее в городе-государстве, располагавшем одним из самых совершенных политических режимов, известных миру. Теперь, причем не в первый раз и далеко не в последний, казалось, что будущее принадлежит тем, у кого больше войско и крупнее организация. Материковая Греция с этого времени представлялась тихой политической заводью под властью македонских губернаторов и начальников гарнизонов. По примеру своего отца Александр стремился снискать расположение греков, предоставив им широчайшие права для внутреннего самоуправления в обмен на поддержку его внешней политики. При таком подходе всегда оставался кое-кто из греков, прежде всего афинские демократы, с кем невозможно было договориться.
Александр, которого мы знаем как Александра Великого, родился в 356 году до н. э. Невзирая на то что отец хотел привить ему любовь к передовой греческой философии и науке, в юности Александр предпочитал семинарам попойки с приятелями; он также питал симпатию к необузданному насилию – один историк назвал его «юным пьющим головорезом». Однако он к тому же мечтал превзойти великие завоевания отца. Когда Александр в 336 году до н. э. взошел на престол, он решил разгромить персов и покорить весь мир.