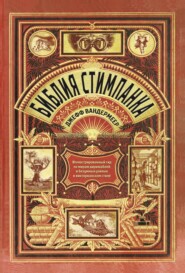По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странная птица. Мертвые астронавты
Автор
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Громко галдя, дети добежали до телескопа, накинули плащ на разбитое око линзы и стали качаться на свободно висящих концах. Потом – стянули вниз, оттащили в другое место, взялись за старое. Они вгрызались в него – совсем как мыши в Чарли Икса, но без мышиной деликатности. Они заворачивались в плащ вшестером по всей длине и ширине, и Морокунья смеялась, притворяясь, что не видит их ног и голов, торчащих наружу.
И вот Странная Птица снова увидела, как взметнулись в воздух жуки, влача следом за собой настоящую бурю. Два воздушных фронта, штормовой и жесткокрылый, схлестнулись, и первый разметал второй, и она была и первым, и вторым, хоть с виду и была преисполнена беззвучным покоем.
Надевала ли Морокунья плащ, накидывала ли капюшон – все причиняло Странной Птице боль, ведь она успевала позабыть, что у нее нет крыльев, нет балансира, который мог бы помочь удержаться в здравом уме; напрочь выбивало из колеи чувство расстегнутости – ощущение, говорящее, что она всего лишь кожа, скользящая по коже Морокуньи, что она – даже ниже неразумного зверя, даже меньше, чем ничто, просто поверхность без глубины, плоская водяная лужа, что испарится без остатка со временем.
– Мой плащ такой красивый, мой плащ такой полезный! – напевала Морокунья всякий раз, когда отнимала свое сокровище у голодранцев. – Я с ним свершу великие дела!
И Странная Птица всякий раз теряла дыхание, неспособная привыкнуть к постоянной иллюзии падения. Ее спасала лишь греза о том, что крылья ее стали капюшоном плаща – что она в любой момент способна разоблачить невидимую Морокунью, сломать иллюзию, разъяв покров ее августейшей главы… или же попросту закутать лицо своей владелицы так туго, что та задохнется.
Жизнь в такой близости от той, что уничтожила ее, не поддавалась описанию – всякий миг был исполнен напряжения. Не передать словами, каково это было – чувствовать дыхание и напряжение мышц стана своей губительницы, чувствовать касание гибких пальцев к ткани, сделанной из оперения Странной Птицы и из самой ее жизни. Прикосновения Морокуньи, оправляющие и одергивающие, были даже хуже неловких касаний Чарли Икса. Но что было совсем плохо – постоянный зуд, сопровождавший неподвластное Птице более видоизменение окраски перьев в соответствии с окружающим ее губительницу ландшафтом.
Компас Морокуньи
Не только у Странной Птицы был направляющий компас внутри; имелся таковой и у Морокуньи. Понимание пришло не сразу, а по прошествии недель, месяцев, лет. Ибо теперь Птице ничто не давалось легко и быстро.
На географическом Севере царствовал Великий Медведь Морд, конкурент Морокуньи за контроль над городом. На географическом Юге располагалось здание Компании – место, которое Странная Птица знала как своего рода Лабораторию, намного превосходящую ту, из которой сбежала. На Западе ютились в сердце обсерватории голодранцы, а на Востоке жили двое – мусорщица Рахиль и еще один противник Морокуньи, некто Вик. Рахиль трудилась не то на пару с Виком, не то в непосредственном подчинении ему, и Вик, как и Морокунья, тоже создавал живые существа и использовал их для обмена на разного рода добро.
Завернувшись в Странную Птицу, чтобы прошмыгнуть мимо своих же соглядатаев, Морокунья тайно встречалась с Виком возле обсерватории. Иногда она предостерегала его, иногда – приказывала или пыталась как-то еще оказать на него влияние. Вик сговорчивостью никогда не отличался – такой же скользкий, как Морокунья, худой бледный человечек, тоже в своем роде – лишь наружность, но не суть.
– Помни, какую страшную боль могу я на тебя навлечь, – говорила Морокунья. Птица в такие моменты удивлялась, почему же она только грозит болью, но никогда не навлекает ее на Вика, во исполнение слов своих. Лишь со временем поняла она, что и Вик, должно быть, по-своему грозен – но к тому часу Странной Птице было уже все равно, потому что вокруг нее все мало-помалу разваливалось, угасало.
Морокунья тайно следила за Виком и Рахилью со своей любимой позиции под утесом, иссеченным изнутри жилищами, близ разлившейся грязной реки. Один раз Морокунья стояла там так долго, что даже Странная Птица насторожилась и вынырнула из круговорота сонного бреда. Морокунья вся напряглась, налилась силой. Вскоре, когда сгустились сумерки, Рахиль и Вик вышли на верхний балкон и затеяли спор. Морокунья тоже начала бормотать, спорить о чем-то сама с собой, и Птица поняла, что она вторит Вику и Рахили. Могла читать по губам, а слова произносила лишь для того, чтобы тверже их запомнить. Странная Птица не имела о Вике никакого четко сложившегося мнения, но ей нравилось, как держится Рахиль: собранно, обособленно, твердо.
В тот же день Морокунья предприняла вылазку во владения Морда, не в пример более рискованную – ибо под покровом плаща-невидимки она подступала почти вплотную к нему, грязному, грузному и непомерному зверю, пирующему на окровавленных останках. Стояла к нему так близко, что могла бы коснуться его, и ее собственные запахи маскировало зловоние пролитой крови. Стояла там, безмолвная и трепещущая от какой-то тайной нужды – в гибели, в опасности? – когда он вздымался громадой, способный всякую простую душу повергнуть в панический бег, насылавший необоримый страх смерти. Но Морокунья простой душой никак не была и потому – лишь испускала дрожащий вздох, проходивший волной через все ее тело.
В отношении Морда она была методична – изучала его привычки по мере того, как тот становился больше и безумнее. Она ступала за ним до самого здания Компании, которое он продолжал стеречь, и наблюдала за напряженным общением между теми, кто был внутри, и медведем-колоссом снаружи.
– Недолго им осталось, – торжествующе ворковала она, возвращаясь в обсерваторию по окончании очередной вылазки. – Медведь стал слишком кровожадным, а они – слишком неудачниками. Надобно поддать им огня. Когда кругом воцарится хаос, я стану воплощением порядка.
Морд уже не интересовался Странной Птицей – столько месяцев (или лет?) прошло с тех пор, как она впервые увидела его. Теперь его полет больше походил на издевку в ее адрес – издевку, достойную Морокуньи. Непостижимость такого существа, как Морд, не могла уже ни вдохновить, ни впечатлить, ибо на Странную Птицу успело обрушиться столько всего, что некогда показалось бы небывалым. Поэтому она льнула к спине Морокуньи и осязала Морда только тогда, когда Морокунья уходила от него, и таким образом Морд стал для нее просто чем-то большим и непонятным, что по мере удаления становилось все меньше и меньше.
Чем бы Морокунья ни занималась – стояла ли на посту, обходила ли свои владения, – Странной Птице всегда приходилось смотреть в другую сторону, на горизонт, к которому та поворачивалась спиной. И часто Странная Птица чаяла, что смотрит в будущее, незнакомое Морокунье. Что из-за этого горизонта явится кто-то или что-то – и убьет ее. И нет разницы, порвут ли драгоценный плащ, чтобы добраться до тела, или нет – Птица прекрасно понимала, даже в нынешнем своем плачевном состоянии, что ее судьба неразрывно связана с судьбой губительницы.
Но неважно, когда это случится, совершенно неважно. Ведь Странная Птица более не хотела жить. Ну или не понимала, как будет жить дальше. В сущности – одно и то же.
Остров
Порой, в первые дни бесконечного отчаяния, Странная Птица пускала Старика в свое воображение: он полз по песку острова, служившего ей убежищем, к дереву. Случалось это либо когда Морокунья была занята, либо поздно ночью, когда плащ лежал на каменном столе и внимал приказам, что его хозяйка раздавала соглядатаям и подчиненным. Правда, иногда плащ вешали в темный чулан в тайных жилых покоях Морокуньи глубоко под обсерваторией – и это было хуже всего.
Странная Птица позволяла Старику появиться перед ней, и он называл ее Айседорой, птицей-красавицей, и то, как он это говорил, настолько отличалось от холодных слов и речей Морокуньи, что на мгновение Птица обретала ложное утешение и вспоминала, как лисицы с дюн смотрели вниз, в ее тюрьму. А потом – видела как Чарли Икс тащит Старика под землю, слышала, как Старик признается в своей тайне – и понимала, что видение было не более чем слабостью с ее стороны.
– Слабость может быть силой, – говорила Санджи, но Странная Птица не верила ей. Не такая слабость, когда собственное «я» растворяется, а дней связующая нить рвется. Санджи вообще теперь частенько заговаривала с ней, и Странная Птица, потерянная в своих мыслях, отступала к лабораторному островку деревьев, окруженному рвом с крокодилами. Усевшись на ветку рядом с ней, Санджи всегда первая начинала разговор.
Остров тоже был слабостью. Но пусть даже Птица никогда не покидала своего насеста и никогда не срывалась в полет – на острове у нее были крылья. И здесь ни Морокунья, ни Старик, нарекший ее Айседорой, ничего не могли возразить против этого.
Странная Птица часто размышляла о последних изменениях, которые ученые внесли в ее организм перед тем, как она покинула Лабораторию. Потому что лучше думать о них, чем о том, что Морокунья учинила с ней.
– Я, как и ты сама, могу лишь гадать, – ответила Санджи, хотя Странная Птица даже не успела задать вопрос. – Может, я дала тебе карту Лаборатории. А может, вложила компас в твои цепкие птичьи когти. Я хотела, чтобы сбежала хоть ты, ведь сама – не могла.
Странная Птица этому не поверила. Санджи могла сбежать в любой момент, как и та ее подруга.
– Как? Я-то летать не умела.
Приступ паники охватил Птицу, и она чуть не захлопала крыльями на своем насесте – устрашившись разом и того, что у нее может получиться, и того, что если получится – сойдет с ума. Больше не вернется ни на этот насест, ни на какой бы то ни было другой, и нырнет в воды неба, в воды ночи, и растворится в них без остатка.
А Санджи сказала:
– Ты могла бы пролететь над всеми этими бедствиями, разрушениями, загрязненными зонами. Ты могла бы пролететь над ними, пережить их – и попасть в какое-нибудь место, что всяко получше этого. – Даже будучи призраком, Санджи не утратила небрежности в голосе.
Может быть, и впрямь есть место получше? Здесь, внутри грезы? Порой Санджи брала ее в лабораторный сад, навестить росшую там яблоню, но путь туда неизменно пролегал чрез бойню, так что сады, несмотря на весь их покой и уют, были окрашены в кровавый цвет – сам их образ тонул в разбрызганном алом, делаясь неразличимым для Птицы. Как тогда Санджи удавалось водить ее по садам? Как Санджи не замечала, что с ней при этом происходит?
– Ну что с меня взять? – вопросила Санджи, возведя очи горе. – Со мной все кончено было. Слишком поздно. Я вложила в тебя слишком много себя. И я не могла наладить связь со своими спутниками – они все пропали. У меня не было иного выбора, кроме как доверить себя тебе.
По этой речи Странная Птица поняла, что настоящая Санджи, Санджи-из-Лаборатории – мертва, верней всего, мертва уже много месяцев. Время для Птицы теперь двигалось столь по-другому, что она не могла сказать, вела ли эти воображаемые беседы пару часов спустя преображающей операции Морокуньи, или прошло уже много лет. Поэтому вполне вероятно, что Санджи умерла давным-давно, в незапамятные времена.
Здесь не было даже намека на солнечный свет, что золотил бы дюны. Было лишь то, что хотелось позабыть. Например, число хирургических вмешательств Морокуньи с момента пленения. Три или четыре? Чтобы сделать плащ идеальным. Чтобы сделать ее идеальной. Так сколько же? Пять, шесть, семь?
Сидя на насесте на своем острове, не запертая более в четырех стеклянных стенах и одной лишь водой, бесконечной, как мир, окруженная, Странная Птица иногда притворялась, что знает.
Иногда она желала увидеть в мыслях лица детей-голодранцев, кучкующихся у стола с каменной столешницей, где проводились операции. Желала найти пускай не тень сочувствия в их глазах, но память о самой себе прежней – они-то все видели ее преображение с начала до конца. Если бы нашла – уверилась бы, что кто-то, кроме Морокуньи, помнил ее не просто как ворох бесформенной плоти со спрятанным в недрах передатчиком-маяком, который то ли по недосмотру, то ли по какой-то еще безвестной причине Морокунья так и не нашла, так и не заглушила.
Сколько было времени? Пора Морокунье вынуть ее из шкафа и вынести в мир.
– Ты – лучшая из нас, – сказала Санджи. – Ты лучше всех нас. Я позаботилась об этом. Я знаю, что путь долог, и я знаю, что он будет опасен, и ты будешь бояться. Но ты должна не сдаваться и лететь дальше.
Последнее, что Санджи сказала ей в Лаборатории. Самое последнее. Самое страшное – перед приходом незваных гостей.
– Уходи, – приказала Странная Птица Санджи, и женщина исчезла с ветки.
Но светящаяся синим лисья голова осталась висеть в воздухе, повернувшись к ней.
Странную Птицу удивляло, что голова эта никогда не меняла положения, лишь только свирепо скалилась и не подчинялась ее воле – совсем как настоящая, будто бы и не мираж. В иные дни одна только тайна синего лиса и занимала ее мысли в том ворохе спутанных времен – во внутренней вселенной, где она настолько была отчуждена от самой себя, что, по сути, и не существовала вовсе, желая попутно, чтобы и другие не существовали тоже.
Но наступало другое утро, а за ним – другая ночь, и Птица снова делалась защитным покровом и тайной Морокуньи. Они снова тайком пробирались в город, и в худшие (а может, лучшие?) дни все вставало на свои места: она вспоминала, сколько лет прошло с момента утраты ею крыльев, и беззвучно кричала, моля бога, в коего экспериментаторы Лаборатории не верили, дать ей шанс вернуться туда, где никакого времени нет. Того бога, к коему, тем не менее, взывал капеллан Лаборатории, освящая эксперименты, – как будто это имело значение для Странной Птицы! Сам факт существования Лаборатории мог допустить лишь бог-монстр, очень жестокий и темный бог.
* * *
Пролетело еще несколько лет, большая часть которых прошла на острове, и желание уйти из жизни, с которым она не могла справиться, привело ее далеко в прошлое – в безумие минувшего, в места еще более худшие.
Ей довелось увидеть, как армия Морокуньи обрела мощь, и как однажды Морокунья предала Чарли Икса – да так, что даже мыши не смогли спасти его, и он умер в пустошах, у старого колодца, и его труп остался валяться лицом к небу – абсурдно ничтожный вдалеке от своего логова-западни. Мышки в конце концов покинули тело Чарли и скрылись в высокой траве – с такой прытью, что Птица даже удивилась: и почему они только не сбежали раньше, что связывало их жизни с существованием Чарли?
Она испытала тот же ужас, что и Морокунья, когда Компания создала псевдо-Мордов – медведей обычного размера, что выглядели совсем как он и были такими же агрессивными и сильными. Разве что летать не умели. Как мало времени понадобилось Морокунье, чтобы и на них найти свою управу! Птица чувствовала, что ее губительница питает к Компании – или к ее пережиткам, раз уж на то пошло, – нечто среднее между любовью и ненавистью. Птица понимала – Морокунья сделает все, чтобы захватить город. Рискнет чем угодно, ибо такова ее судьба, в том она правомочна, пусть даже и лишь в своем представлении. Птица замечала, что в своей одержимости захватом власти в городе Морокунья беспросветно одинока, пусть даже на ее стороне и выступали многие.
К тому времени передатчик-маяк внутри Птицы почти не давал сигнала, его пульс стал нитевидным, прерывистым. Порой Птица пробуждалась ослепшей, и лишь только подкожные инъекции неизвестных веществ, которые делала Морокунья, приводили ее в шаткую норму. Она почти забыла, зачем ей этот маячок. Когда-то компас тянул ее на юго-восток, но и о том Птица уже не помнила.
Наконец настало время, когда она отринула себя настолько, что даже покой сделался непереносимым. И только слабое биение напоминало о существовании маячка, связывая ее с какой-то другой жизнью, но она даже жалела, что ее губительница не извлекла маячок сей на самом начальном этапе ее перекройки.
Синий Лис
И вот Странная Птица снова увидела, как взметнулись в воздух жуки, влача следом за собой настоящую бурю. Два воздушных фронта, штормовой и жесткокрылый, схлестнулись, и первый разметал второй, и она была и первым, и вторым, хоть с виду и была преисполнена беззвучным покоем.
Надевала ли Морокунья плащ, накидывала ли капюшон – все причиняло Странной Птице боль, ведь она успевала позабыть, что у нее нет крыльев, нет балансира, который мог бы помочь удержаться в здравом уме; напрочь выбивало из колеи чувство расстегнутости – ощущение, говорящее, что она всего лишь кожа, скользящая по коже Морокуньи, что она – даже ниже неразумного зверя, даже меньше, чем ничто, просто поверхность без глубины, плоская водяная лужа, что испарится без остатка со временем.
– Мой плащ такой красивый, мой плащ такой полезный! – напевала Морокунья всякий раз, когда отнимала свое сокровище у голодранцев. – Я с ним свершу великие дела!
И Странная Птица всякий раз теряла дыхание, неспособная привыкнуть к постоянной иллюзии падения. Ее спасала лишь греза о том, что крылья ее стали капюшоном плаща – что она в любой момент способна разоблачить невидимую Морокунью, сломать иллюзию, разъяв покров ее августейшей главы… или же попросту закутать лицо своей владелицы так туго, что та задохнется.
Жизнь в такой близости от той, что уничтожила ее, не поддавалась описанию – всякий миг был исполнен напряжения. Не передать словами, каково это было – чувствовать дыхание и напряжение мышц стана своей губительницы, чувствовать касание гибких пальцев к ткани, сделанной из оперения Странной Птицы и из самой ее жизни. Прикосновения Морокуньи, оправляющие и одергивающие, были даже хуже неловких касаний Чарли Икса. Но что было совсем плохо – постоянный зуд, сопровождавший неподвластное Птице более видоизменение окраски перьев в соответствии с окружающим ее губительницу ландшафтом.
Компас Морокуньи
Не только у Странной Птицы был направляющий компас внутри; имелся таковой и у Морокуньи. Понимание пришло не сразу, а по прошествии недель, месяцев, лет. Ибо теперь Птице ничто не давалось легко и быстро.
На географическом Севере царствовал Великий Медведь Морд, конкурент Морокуньи за контроль над городом. На географическом Юге располагалось здание Компании – место, которое Странная Птица знала как своего рода Лабораторию, намного превосходящую ту, из которой сбежала. На Западе ютились в сердце обсерватории голодранцы, а на Востоке жили двое – мусорщица Рахиль и еще один противник Морокуньи, некто Вик. Рахиль трудилась не то на пару с Виком, не то в непосредственном подчинении ему, и Вик, как и Морокунья, тоже создавал живые существа и использовал их для обмена на разного рода добро.
Завернувшись в Странную Птицу, чтобы прошмыгнуть мимо своих же соглядатаев, Морокунья тайно встречалась с Виком возле обсерватории. Иногда она предостерегала его, иногда – приказывала или пыталась как-то еще оказать на него влияние. Вик сговорчивостью никогда не отличался – такой же скользкий, как Морокунья, худой бледный человечек, тоже в своем роде – лишь наружность, но не суть.
– Помни, какую страшную боль могу я на тебя навлечь, – говорила Морокунья. Птица в такие моменты удивлялась, почему же она только грозит болью, но никогда не навлекает ее на Вика, во исполнение слов своих. Лишь со временем поняла она, что и Вик, должно быть, по-своему грозен – но к тому часу Странной Птице было уже все равно, потому что вокруг нее все мало-помалу разваливалось, угасало.
Морокунья тайно следила за Виком и Рахилью со своей любимой позиции под утесом, иссеченным изнутри жилищами, близ разлившейся грязной реки. Один раз Морокунья стояла там так долго, что даже Странная Птица насторожилась и вынырнула из круговорота сонного бреда. Морокунья вся напряглась, налилась силой. Вскоре, когда сгустились сумерки, Рахиль и Вик вышли на верхний балкон и затеяли спор. Морокунья тоже начала бормотать, спорить о чем-то сама с собой, и Птица поняла, что она вторит Вику и Рахили. Могла читать по губам, а слова произносила лишь для того, чтобы тверже их запомнить. Странная Птица не имела о Вике никакого четко сложившегося мнения, но ей нравилось, как держится Рахиль: собранно, обособленно, твердо.
В тот же день Морокунья предприняла вылазку во владения Морда, не в пример более рискованную – ибо под покровом плаща-невидимки она подступала почти вплотную к нему, грязному, грузному и непомерному зверю, пирующему на окровавленных останках. Стояла к нему так близко, что могла бы коснуться его, и ее собственные запахи маскировало зловоние пролитой крови. Стояла там, безмолвная и трепещущая от какой-то тайной нужды – в гибели, в опасности? – когда он вздымался громадой, способный всякую простую душу повергнуть в панический бег, насылавший необоримый страх смерти. Но Морокунья простой душой никак не была и потому – лишь испускала дрожащий вздох, проходивший волной через все ее тело.
В отношении Морда она была методична – изучала его привычки по мере того, как тот становился больше и безумнее. Она ступала за ним до самого здания Компании, которое он продолжал стеречь, и наблюдала за напряженным общением между теми, кто был внутри, и медведем-колоссом снаружи.
– Недолго им осталось, – торжествующе ворковала она, возвращаясь в обсерваторию по окончании очередной вылазки. – Медведь стал слишком кровожадным, а они – слишком неудачниками. Надобно поддать им огня. Когда кругом воцарится хаос, я стану воплощением порядка.
Морд уже не интересовался Странной Птицей – столько месяцев (или лет?) прошло с тех пор, как она впервые увидела его. Теперь его полет больше походил на издевку в ее адрес – издевку, достойную Морокуньи. Непостижимость такого существа, как Морд, не могла уже ни вдохновить, ни впечатлить, ибо на Странную Птицу успело обрушиться столько всего, что некогда показалось бы небывалым. Поэтому она льнула к спине Морокуньи и осязала Морда только тогда, когда Морокунья уходила от него, и таким образом Морд стал для нее просто чем-то большим и непонятным, что по мере удаления становилось все меньше и меньше.
Чем бы Морокунья ни занималась – стояла ли на посту, обходила ли свои владения, – Странной Птице всегда приходилось смотреть в другую сторону, на горизонт, к которому та поворачивалась спиной. И часто Странная Птица чаяла, что смотрит в будущее, незнакомое Морокунье. Что из-за этого горизонта явится кто-то или что-то – и убьет ее. И нет разницы, порвут ли драгоценный плащ, чтобы добраться до тела, или нет – Птица прекрасно понимала, даже в нынешнем своем плачевном состоянии, что ее судьба неразрывно связана с судьбой губительницы.
Но неважно, когда это случится, совершенно неважно. Ведь Странная Птица более не хотела жить. Ну или не понимала, как будет жить дальше. В сущности – одно и то же.
Остров
Порой, в первые дни бесконечного отчаяния, Странная Птица пускала Старика в свое воображение: он полз по песку острова, служившего ей убежищем, к дереву. Случалось это либо когда Морокунья была занята, либо поздно ночью, когда плащ лежал на каменном столе и внимал приказам, что его хозяйка раздавала соглядатаям и подчиненным. Правда, иногда плащ вешали в темный чулан в тайных жилых покоях Морокуньи глубоко под обсерваторией – и это было хуже всего.
Странная Птица позволяла Старику появиться перед ней, и он называл ее Айседорой, птицей-красавицей, и то, как он это говорил, настолько отличалось от холодных слов и речей Морокуньи, что на мгновение Птица обретала ложное утешение и вспоминала, как лисицы с дюн смотрели вниз, в ее тюрьму. А потом – видела как Чарли Икс тащит Старика под землю, слышала, как Старик признается в своей тайне – и понимала, что видение было не более чем слабостью с ее стороны.
– Слабость может быть силой, – говорила Санджи, но Странная Птица не верила ей. Не такая слабость, когда собственное «я» растворяется, а дней связующая нить рвется. Санджи вообще теперь частенько заговаривала с ней, и Странная Птица, потерянная в своих мыслях, отступала к лабораторному островку деревьев, окруженному рвом с крокодилами. Усевшись на ветку рядом с ней, Санджи всегда первая начинала разговор.
Остров тоже был слабостью. Но пусть даже Птица никогда не покидала своего насеста и никогда не срывалась в полет – на острове у нее были крылья. И здесь ни Морокунья, ни Старик, нарекший ее Айседорой, ничего не могли возразить против этого.
Странная Птица часто размышляла о последних изменениях, которые ученые внесли в ее организм перед тем, как она покинула Лабораторию. Потому что лучше думать о них, чем о том, что Морокунья учинила с ней.
– Я, как и ты сама, могу лишь гадать, – ответила Санджи, хотя Странная Птица даже не успела задать вопрос. – Может, я дала тебе карту Лаборатории. А может, вложила компас в твои цепкие птичьи когти. Я хотела, чтобы сбежала хоть ты, ведь сама – не могла.
Странная Птица этому не поверила. Санджи могла сбежать в любой момент, как и та ее подруга.
– Как? Я-то летать не умела.
Приступ паники охватил Птицу, и она чуть не захлопала крыльями на своем насесте – устрашившись разом и того, что у нее может получиться, и того, что если получится – сойдет с ума. Больше не вернется ни на этот насест, ни на какой бы то ни было другой, и нырнет в воды неба, в воды ночи, и растворится в них без остатка.
А Санджи сказала:
– Ты могла бы пролететь над всеми этими бедствиями, разрушениями, загрязненными зонами. Ты могла бы пролететь над ними, пережить их – и попасть в какое-нибудь место, что всяко получше этого. – Даже будучи призраком, Санджи не утратила небрежности в голосе.
Может быть, и впрямь есть место получше? Здесь, внутри грезы? Порой Санджи брала ее в лабораторный сад, навестить росшую там яблоню, но путь туда неизменно пролегал чрез бойню, так что сады, несмотря на весь их покой и уют, были окрашены в кровавый цвет – сам их образ тонул в разбрызганном алом, делаясь неразличимым для Птицы. Как тогда Санджи удавалось водить ее по садам? Как Санджи не замечала, что с ней при этом происходит?
– Ну что с меня взять? – вопросила Санджи, возведя очи горе. – Со мной все кончено было. Слишком поздно. Я вложила в тебя слишком много себя. И я не могла наладить связь со своими спутниками – они все пропали. У меня не было иного выбора, кроме как доверить себя тебе.
По этой речи Странная Птица поняла, что настоящая Санджи, Санджи-из-Лаборатории – мертва, верней всего, мертва уже много месяцев. Время для Птицы теперь двигалось столь по-другому, что она не могла сказать, вела ли эти воображаемые беседы пару часов спустя преображающей операции Морокуньи, или прошло уже много лет. Поэтому вполне вероятно, что Санджи умерла давным-давно, в незапамятные времена.
Здесь не было даже намека на солнечный свет, что золотил бы дюны. Было лишь то, что хотелось позабыть. Например, число хирургических вмешательств Морокуньи с момента пленения. Три или четыре? Чтобы сделать плащ идеальным. Чтобы сделать ее идеальной. Так сколько же? Пять, шесть, семь?
Сидя на насесте на своем острове, не запертая более в четырех стеклянных стенах и одной лишь водой, бесконечной, как мир, окруженная, Странная Птица иногда притворялась, что знает.
Иногда она желала увидеть в мыслях лица детей-голодранцев, кучкующихся у стола с каменной столешницей, где проводились операции. Желала найти пускай не тень сочувствия в их глазах, но память о самой себе прежней – они-то все видели ее преображение с начала до конца. Если бы нашла – уверилась бы, что кто-то, кроме Морокуньи, помнил ее не просто как ворох бесформенной плоти со спрятанным в недрах передатчиком-маяком, который то ли по недосмотру, то ли по какой-то еще безвестной причине Морокунья так и не нашла, так и не заглушила.
Сколько было времени? Пора Морокунье вынуть ее из шкафа и вынести в мир.
– Ты – лучшая из нас, – сказала Санджи. – Ты лучше всех нас. Я позаботилась об этом. Я знаю, что путь долог, и я знаю, что он будет опасен, и ты будешь бояться. Но ты должна не сдаваться и лететь дальше.
Последнее, что Санджи сказала ей в Лаборатории. Самое последнее. Самое страшное – перед приходом незваных гостей.
– Уходи, – приказала Странная Птица Санджи, и женщина исчезла с ветки.
Но светящаяся синим лисья голова осталась висеть в воздухе, повернувшись к ней.
Странную Птицу удивляло, что голова эта никогда не меняла положения, лишь только свирепо скалилась и не подчинялась ее воле – совсем как настоящая, будто бы и не мираж. В иные дни одна только тайна синего лиса и занимала ее мысли в том ворохе спутанных времен – во внутренней вселенной, где она настолько была отчуждена от самой себя, что, по сути, и не существовала вовсе, желая попутно, чтобы и другие не существовали тоже.
Но наступало другое утро, а за ним – другая ночь, и Птица снова делалась защитным покровом и тайной Морокуньи. Они снова тайком пробирались в город, и в худшие (а может, лучшие?) дни все вставало на свои места: она вспоминала, сколько лет прошло с момента утраты ею крыльев, и беззвучно кричала, моля бога, в коего экспериментаторы Лаборатории не верили, дать ей шанс вернуться туда, где никакого времени нет. Того бога, к коему, тем не менее, взывал капеллан Лаборатории, освящая эксперименты, – как будто это имело значение для Странной Птицы! Сам факт существования Лаборатории мог допустить лишь бог-монстр, очень жестокий и темный бог.
* * *
Пролетело еще несколько лет, большая часть которых прошла на острове, и желание уйти из жизни, с которым она не могла справиться, привело ее далеко в прошлое – в безумие минувшего, в места еще более худшие.
Ей довелось увидеть, как армия Морокуньи обрела мощь, и как однажды Морокунья предала Чарли Икса – да так, что даже мыши не смогли спасти его, и он умер в пустошах, у старого колодца, и его труп остался валяться лицом к небу – абсурдно ничтожный вдалеке от своего логова-западни. Мышки в конце концов покинули тело Чарли и скрылись в высокой траве – с такой прытью, что Птица даже удивилась: и почему они только не сбежали раньше, что связывало их жизни с существованием Чарли?
Она испытала тот же ужас, что и Морокунья, когда Компания создала псевдо-Мордов – медведей обычного размера, что выглядели совсем как он и были такими же агрессивными и сильными. Разве что летать не умели. Как мало времени понадобилось Морокунье, чтобы и на них найти свою управу! Птица чувствовала, что ее губительница питает к Компании – или к ее пережиткам, раз уж на то пошло, – нечто среднее между любовью и ненавистью. Птица понимала – Морокунья сделает все, чтобы захватить город. Рискнет чем угодно, ибо такова ее судьба, в том она правомочна, пусть даже и лишь в своем представлении. Птица замечала, что в своей одержимости захватом власти в городе Морокунья беспросветно одинока, пусть даже на ее стороне и выступали многие.
К тому времени передатчик-маяк внутри Птицы почти не давал сигнала, его пульс стал нитевидным, прерывистым. Порой Птица пробуждалась ослепшей, и лишь только подкожные инъекции неизвестных веществ, которые делала Морокунья, приводили ее в шаткую норму. Она почти забыла, зачем ей этот маячок. Когда-то компас тянул ее на юго-восток, но и о том Птица уже не помнила.
Наконец настало время, когда она отринула себя настолько, что даже покой сделался непереносимым. И только слабое биение напоминало о существовании маячка, связывая ее с какой-то другой жизнью, но она даже жалела, что ее губительница не извлекла маячок сей на самом начальном этапе ее перекройки.
Синий Лис