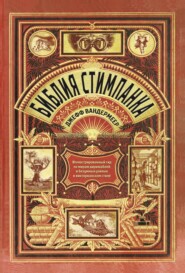По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странная птица. Мертвые астронавты
Автор
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Морокунья грациозно повернулась лицом к Чарли, вытянула руку – и перерезала ему горло припрятанным в рукавчике ножом. И вновь застыла – недвижимая, как статуэтка.
Чарли Икс пошатнулся, удержал равновесие, рефлекторно схватился рукой за шею.
Лица детишек обратились к нему. Маленькие голодранцы взволнованно защебетали на языке, которого Странная Птица не знала. Возможно, то была бессмыслица, тарабарщина. Их не испугал поступок Морокуньи, не удивил чрезмерно – видимо, такое происходило не раз.
Кровь не текла из горла Чарли Икса – вместо нее наружу хлынул поток крошечных мышек. Странная Птица увидела, как грызуны зашивают порез изнутри, сдерживают своими маленькими зубками. Чарли Икс булькал горлом и все пытался выпрямиться, слепо шаря по столу. Рука, мазнувшая по каменной столешнице, зацепила крыло Птицы.
– Знай свой шесток, Чарли Икс. Ты мне не ученик. Ты приносишь мне всякое, а я за это дозволяю тебе жить презренным ктенизидом[3 - Ктенизид – паук, загораживающий собственным брюшком маскировочной окраски проход в вырытую им подземную ловушку. На английском – trapdoor spider (дословно – «паук-лазейка»).] в своем маленьком царстве и не докучаю тебе сверх меры. Но на этом – все. И я тебе ничем не обязана.
Чарли Икс явно уже пожалел, что попросил награду, – рана срослась, но мыши лезли ему в рот, назад в свое логово.
– Ты мне не ученик, – повторила Морокунья, кивая на детей. – Ты уже не молод. Ты – наполовину нетопырь.
– Я молод! – булькнул Чарли Икс, но не смог опровергнуть второй довод.
Но она щелкнула пальцами, и дети бросились к нему, все еще занятому собственной реконструкцией, и подняли его, борющегося, и вынесли, как живой гроб, держа поверх своих голов, на плечах. Море ребятишек излилось из обсерватории через дальнюю сводчатую арку, неся Чарли назад к люку. Пусть сидит там тихо и догрызает остатки недавней добычи.
Конечно, Странная Птица верила, что нет места хуже, чем Лаборатория или камера в тюрьме Старика, но красота и таинственность планет, вращающихся над ней, не могли сбить ее с толку. Она поняла, что угодила в такое место, о котором Санджи сказала бы – «своего рода ад».
А голова синего лиса на стене тем временем бесстрастно взирала вниз, светясь, точно лампа, потому что Морокунья превратила ее в лампу, но не дала ей милости забыть, чем она стала, и когда Странная Птица посмотрела на все еще живую лису, то поняла, что Морокунья не убьет ее. Что ее ждет кое-что похуже.
* * *
Все разобщилось и куда-то поплыло. Пристальный взгляд Морокуньи внушал, что уж не быть Птице птицей вскорости – и внушение это опустошило еще до того, как ее коснулись лезвия. До того, как создания-агенты Морокуньи зарылись в ее плоть и свернулись внутри ее тела калачиками. Как она тосковала теперь по дням, проведенным в подземной темнице, и по ночам, разделенным с маленькими лисами. То время казалось теперь идиллией, как если бы тюрьма Старика была спасительным прибежищем.
Дети с мертвыми глазами сомкнули тесные ряды, охочие до зрелища. Всю их энергию и все их намерения Морокунья собрала в пучок и завязала в узел. В узел связи, по которому проистекала ее собственная энергия. В узел почти что семейной связи.
– Айседора, ты такая красивая, – сказал Старик, но она не могла разглядеть ни его лица, ни лица Санджи. Она не могла понять, что он говорит, кроме того, что теперь вместо него вещала Морокунья.
– Ты прелестная штучка, – говорила она. – Но совершенству и пользе предела нет.
– Мое семя – твое семя, – сказала Странная Птица. Санджи что-то говорила ей. Во сне или в Лаборатории. Но она не могла вспомнить.
Морокунья даже не замешкалась.
– Может, так оно и есть, может, этак. Из нас двоих именно ты преображаешься. Безо всяких обезболивающих. Но ты – сотворенная вещь, а я – нет, так что тебе допинг не нужен – ты и сама найдешь способы заглушить боль. Интересно, понимаешь ли ты, что я говорю, или у тебя мозги как у кукушки в механических часах? Должна понять. Я-то за тебя – не смогу.
– Одна из – в пустыне, другая у моря. Одна в бору, другая – на болоте. – Лаборатория. Процесс изучения. Ее, Птицы.
– И одна – на столе, и готова к работе, – добавила Морокунья.
По ее взгляду, если не по словам, Странная Птица все поняла. То был взгляд, которым Санджи одаривала ее и других в Лаборатории, прежде чем добавить, отнять, разделить или умножить. Как если бы математизация всех этих действий могла сделать их абстрактными, не подразумевающими вмешательство в плоть и кровь.
Уж в этот раз ей не оправиться. Не сбежать из обсерватории, оставшись самой собой.
* * *
Боль была острой, точно нож, и всепронзающей – как если бы каждый голодранец из свиты Морокуньи зажженной спичкой подпалил каждое ее перо. Как если бы каждое перо стало шилом, протыкающим тело. И даже так не выходило описать агонию, что охватывала ее, когда Морокунья отнимала крылья, ломала хребет, удаляла одну за другой кости… и при том – оставляла ее живой, корчащейся, бесформенной на каменном столе, все еще способной видеть – и потому видящей, как собственные незаменимые клочки летят по закоулочкам. Ей даже клюва не оставили – теперь она дышала через астматически свистящую щель.
Она чувствовала, как напряжение накатывает и отступает волнами. Дети обсерватории одобрительно галдели и ухмылялись – оттягивали напряженные губы очень по-звериному и зубовным блеском затмевали небеса наверху; а потом вдруг все как один затихали, взирая на очередной хирургический фокус Морокуньи – и тогда тишина оглушала Странную Птицу, чьей плоти становилось все меньше. Морокунья зверствовала, но при этом действовала столь уверенно, столь отточенно, столь клинически, что у Птицы даже не было возможности умереть от шока – освежеванной, перекроенной.
– Всякая тварь, – звучал где-то далеко и расплывчато голос Морокуньи, – созданная природой либо же технологией, несет на себе оттиск. Порой даже не один. Оттиск создателей своих, увековечивающий их намерения. Намеренно ли, нет – те оттиски несут в себе послание, и если прочесть его, то… о, что у нас тут? Вторая скрипка вмешивается, перекрывает партию – лишняя! Один момент, сейчас я сделаю ее потише… о да, готово. Что ж, как я уже говорила – хотя сомневаюсь, что кто-то из ныне присутствующих сможет меня понять, – без перебивки оттиска операция не пройдет успешно. Но сначала нужно все тщательно прочитать, найти все дорожки. Вот эта вот птица… да какая это птица! В ней и головоногий кальмар, и даже хомо сапиенс собственной персоной. У нее неслабо развита маскировочная способность – как на физическом, так и на органическом уровне. Так во что же мне обратить эту тварь? Во что-то полезное лично для меня, несомненно. У кого-нибудь есть предположения? Предположений нет, как и ожидалось. Но погодите – вот вы взберетесь на этот стол и все сами увидите…
* * *
А потом настал такой момент, когда Странная Птица, распятая на столе, перекроенная сверху донизу, нашла-таки способ заглушить боль – в каждом отъятом от нее фрагменте. На нее волнами накатывал смех голодранцев. Разнимавшие Птицу руки Морокуньи опустились, и даже маленькие невинные создания, всякие паучки и черви, запущенные в тело пленницы, дабы упростить преображение, унялись. Исчезло все – в конце концов остались только голова лиса на стене, благожелательно глядящая на нее сверху вниз, источающая тот неувядающий вечный синеватый свет, да агония, да чудо-компас, все еще живой, тайно пульсировавший и старательно скрывающийся от пытливой Морокуньи. Пульсировавший для нее одной, дико зудевший – и все же одним своим присутствием дававший понять, что она до сих пор жива. Маяк, зовущий на юго-восток – вот во что превратился компас в ее сознании. Но сама она последовать зову не могла – видимо, юго-восток должен был проследовать к ней. Пульс компаса был пульсом разума Странной Птицы, биением ее сердца, трепетом того живого, что еще осталось в ее теле. Все это спасало Странную Птицу, пусть даже птицей она и перестала быть. Маяк, означавший нечто отличное от плоти, все еще жил в ней.
Как говорила Санджи, ее надзирательница и подруга:
– Нет ничего постыдного в том, чтобы сгинуть во мрак. Нет ничего постыдного в том, чтобы на время сдаться.
Как говорил Старик, чей труп остался снаружи:
– Теперь я – обитатель тьмы. Здесь живу, здесь умираю, здесь опять-таки живу.
Даже оставшись без своих крыльев, Птица, в новообретенной протяженно-сплюснутой форме, занимала весь стол. Тянулся за часом час. Голодранцы разбежались – им наскучило ожидание. Остались только Лис и Морокунья. У Лиса особого выбора, впрочем, не было.
Морокунья утерла трудовой пот с лица и смерила взглядом новое творение, взиравшее в ответ глазами, скрытыми среди переливчатых перьев, глотавшее воздух перемещенным на изнанку рыбьим ртом.
– Когда отойдешь от шока – будешь моим выходным плащом, – сказала она. – И когда я буду носить тебя, плащик-невидимка, никто и знать не будет, как близко я подошла. Может, ты сама и не разделяешь мои чувства, но лично я безумно рада обновке. Не отчаивайся перед лицом перемен – за них мы всегда платим. Кто-то меньше, как я, кто-то больше, как ты.
Нечто на каменном столе обвисло – безвольное и недвижимое. Оно уже обрело цвет и текстуру, присущие ему. Нечто на столе внимало позывным маяка, считывало ритм и ждало.
Куда стремиться? На что надеяться? Где обрести покой?
Четвертый сон
В четвертом сне Санджи – птица, и она летит рядом со Странной Птицей высоко над землей, где не заметны и не ощущаются боль и отчаяние. Как птица Санджи, может быть, не прямо-таки Странная, но причудливая – уж точно: гобелен ее плоти соткан из множества самых разных животных, крылатых и бескрылых. Но все-таки – Санджи летит!
А Странная Птица теперь сделана из воздуха, а не из плоти. Она наслаждается своей воздушностью, упивается ей, ее порыв незрим и исполнен торжества. Она задается вопросом, почему Санджи избрала птичье обличье. Ведь могла бы запросто стать ветром. Стать ничем.
В этом сне Странная Птица задерживается надолго. Так долго, как только возможно.
Плащ и время
Удивительно, но Чарли Иксу она полюбилась. Ему нравилось пробегаться грубыми пальцами по ее оперению – в те моменты, когда Морокунья, как Чарли полагал, не видела. По его касаниям Странная Птица многое узнавала о своей нынешней форме – иные части ее тела сделались безответными, немыми, и только руки человека с головой нетопыря могли теперь помочь понять, что с ними стало.
– Мягкая, – бубнил Чарли Икс, будто не встречавший ничего мягкого доселе. – Очень красивая. – Он восхищался ей как собственным созданием, но ведь все, что он сделал, – убил и обглодал Старика, а Птицу изловил и принес в подарок существу еще более чудовищному, чем он сам.
Морокунья частенько перерезала Чарли Иксу горло, но он возвращался снова и снова, и Птица все сильнее свыкалась с ним, все больше на него полагалась. Она потеряла счет его бессмысленным экзекуциям и не знала, сколько раз из его горла лезли мыши, но от нее никак не укрылось, что руки Чарли с каждым разом дрожат все сильнее, а безумная тоска, что ранее читалась лишь в глазах, сказалась и на изуродованном его лице.
Странная Птица ненавидела его касания. То, что он дал ей прочувствовать, он же у нее и отнял стократ, а ответить чем-либо она не могла. Теперь она была как Старик в люке – что-то внутри, что-то снаружи. Сбитая с толку, она кружила на одном месте, приходя раз за разом в исходную точку – без шанса на побег, но с возможностью оного.
Странная Птица не могла снова стать собой после всего того, что с ней сотворили. Она осталась без крыльев, и шок от такой утраты смягчался лишь тем, что Морокунья лишила ее широкого спектра чувств. Ее рот больше не годился для трелей – только для мелких суетных вдохов. Теперь ее глаза видели только то, что было над ней, когда Морокунья укладывала ее спать ночью, и то, что было над ней, когда вставало солнце, прежде чем Морокунья же снова поднимала ее.
Меж этих двух состояний не ведала Птица утешения настоящего сна, а лишь ныряла в болезненную полудрему. Она всегда чувствовала себя измученной и постоянно забывала про свои увечья – била крыльями, которых не было, посылая приступы дрожи через свое гладкое и тонкое бесформенное тело. На какое-то время осознание того, чем она стала, улетучивалось из ее памяти.
В одну из первых ужасных ночей Морокунья, сама не своя от гордости за себя, отдала плащ голодранцам, и с ним они бегали по обсерватории, держа живую реликвию высоко над головами, – как некогда держали Чарли Икса. Не оставалось места, которого бы не коснулись их грязные руки. Они тянули плащ в разные стороны, пробуя разорвать, пробовали пальцами провертеть в нем дырки и даже прокусить. По всему этому Странная Птица поняла, что свои сумасбродные ясли Морокунья использует для проверки своих творений на прочность.
Чарли Икс пошатнулся, удержал равновесие, рефлекторно схватился рукой за шею.
Лица детишек обратились к нему. Маленькие голодранцы взволнованно защебетали на языке, которого Странная Птица не знала. Возможно, то была бессмыслица, тарабарщина. Их не испугал поступок Морокуньи, не удивил чрезмерно – видимо, такое происходило не раз.
Кровь не текла из горла Чарли Икса – вместо нее наружу хлынул поток крошечных мышек. Странная Птица увидела, как грызуны зашивают порез изнутри, сдерживают своими маленькими зубками. Чарли Икс булькал горлом и все пытался выпрямиться, слепо шаря по столу. Рука, мазнувшая по каменной столешнице, зацепила крыло Птицы.
– Знай свой шесток, Чарли Икс. Ты мне не ученик. Ты приносишь мне всякое, а я за это дозволяю тебе жить презренным ктенизидом[3 - Ктенизид – паук, загораживающий собственным брюшком маскировочной окраски проход в вырытую им подземную ловушку. На английском – trapdoor spider (дословно – «паук-лазейка»).] в своем маленьком царстве и не докучаю тебе сверх меры. Но на этом – все. И я тебе ничем не обязана.
Чарли Икс явно уже пожалел, что попросил награду, – рана срослась, но мыши лезли ему в рот, назад в свое логово.
– Ты мне не ученик, – повторила Морокунья, кивая на детей. – Ты уже не молод. Ты – наполовину нетопырь.
– Я молод! – булькнул Чарли Икс, но не смог опровергнуть второй довод.
Но она щелкнула пальцами, и дети бросились к нему, все еще занятому собственной реконструкцией, и подняли его, борющегося, и вынесли, как живой гроб, держа поверх своих голов, на плечах. Море ребятишек излилось из обсерватории через дальнюю сводчатую арку, неся Чарли назад к люку. Пусть сидит там тихо и догрызает остатки недавней добычи.
Конечно, Странная Птица верила, что нет места хуже, чем Лаборатория или камера в тюрьме Старика, но красота и таинственность планет, вращающихся над ней, не могли сбить ее с толку. Она поняла, что угодила в такое место, о котором Санджи сказала бы – «своего рода ад».
А голова синего лиса на стене тем временем бесстрастно взирала вниз, светясь, точно лампа, потому что Морокунья превратила ее в лампу, но не дала ей милости забыть, чем она стала, и когда Странная Птица посмотрела на все еще живую лису, то поняла, что Морокунья не убьет ее. Что ее ждет кое-что похуже.
* * *
Все разобщилось и куда-то поплыло. Пристальный взгляд Морокуньи внушал, что уж не быть Птице птицей вскорости – и внушение это опустошило еще до того, как ее коснулись лезвия. До того, как создания-агенты Морокуньи зарылись в ее плоть и свернулись внутри ее тела калачиками. Как она тосковала теперь по дням, проведенным в подземной темнице, и по ночам, разделенным с маленькими лисами. То время казалось теперь идиллией, как если бы тюрьма Старика была спасительным прибежищем.
Дети с мертвыми глазами сомкнули тесные ряды, охочие до зрелища. Всю их энергию и все их намерения Морокунья собрала в пучок и завязала в узел. В узел связи, по которому проистекала ее собственная энергия. В узел почти что семейной связи.
– Айседора, ты такая красивая, – сказал Старик, но она не могла разглядеть ни его лица, ни лица Санджи. Она не могла понять, что он говорит, кроме того, что теперь вместо него вещала Морокунья.
– Ты прелестная штучка, – говорила она. – Но совершенству и пользе предела нет.
– Мое семя – твое семя, – сказала Странная Птица. Санджи что-то говорила ей. Во сне или в Лаборатории. Но она не могла вспомнить.
Морокунья даже не замешкалась.
– Может, так оно и есть, может, этак. Из нас двоих именно ты преображаешься. Безо всяких обезболивающих. Но ты – сотворенная вещь, а я – нет, так что тебе допинг не нужен – ты и сама найдешь способы заглушить боль. Интересно, понимаешь ли ты, что я говорю, или у тебя мозги как у кукушки в механических часах? Должна понять. Я-то за тебя – не смогу.
– Одна из – в пустыне, другая у моря. Одна в бору, другая – на болоте. – Лаборатория. Процесс изучения. Ее, Птицы.
– И одна – на столе, и готова к работе, – добавила Морокунья.
По ее взгляду, если не по словам, Странная Птица все поняла. То был взгляд, которым Санджи одаривала ее и других в Лаборатории, прежде чем добавить, отнять, разделить или умножить. Как если бы математизация всех этих действий могла сделать их абстрактными, не подразумевающими вмешательство в плоть и кровь.
Уж в этот раз ей не оправиться. Не сбежать из обсерватории, оставшись самой собой.
* * *
Боль была острой, точно нож, и всепронзающей – как если бы каждый голодранец из свиты Морокуньи зажженной спичкой подпалил каждое ее перо. Как если бы каждое перо стало шилом, протыкающим тело. И даже так не выходило описать агонию, что охватывала ее, когда Морокунья отнимала крылья, ломала хребет, удаляла одну за другой кости… и при том – оставляла ее живой, корчащейся, бесформенной на каменном столе, все еще способной видеть – и потому видящей, как собственные незаменимые клочки летят по закоулочкам. Ей даже клюва не оставили – теперь она дышала через астматически свистящую щель.
Она чувствовала, как напряжение накатывает и отступает волнами. Дети обсерватории одобрительно галдели и ухмылялись – оттягивали напряженные губы очень по-звериному и зубовным блеском затмевали небеса наверху; а потом вдруг все как один затихали, взирая на очередной хирургический фокус Морокуньи – и тогда тишина оглушала Странную Птицу, чьей плоти становилось все меньше. Морокунья зверствовала, но при этом действовала столь уверенно, столь отточенно, столь клинически, что у Птицы даже не было возможности умереть от шока – освежеванной, перекроенной.
– Всякая тварь, – звучал где-то далеко и расплывчато голос Морокуньи, – созданная природой либо же технологией, несет на себе оттиск. Порой даже не один. Оттиск создателей своих, увековечивающий их намерения. Намеренно ли, нет – те оттиски несут в себе послание, и если прочесть его, то… о, что у нас тут? Вторая скрипка вмешивается, перекрывает партию – лишняя! Один момент, сейчас я сделаю ее потише… о да, готово. Что ж, как я уже говорила – хотя сомневаюсь, что кто-то из ныне присутствующих сможет меня понять, – без перебивки оттиска операция не пройдет успешно. Но сначала нужно все тщательно прочитать, найти все дорожки. Вот эта вот птица… да какая это птица! В ней и головоногий кальмар, и даже хомо сапиенс собственной персоной. У нее неслабо развита маскировочная способность – как на физическом, так и на органическом уровне. Так во что же мне обратить эту тварь? Во что-то полезное лично для меня, несомненно. У кого-нибудь есть предположения? Предположений нет, как и ожидалось. Но погодите – вот вы взберетесь на этот стол и все сами увидите…
* * *
А потом настал такой момент, когда Странная Птица, распятая на столе, перекроенная сверху донизу, нашла-таки способ заглушить боль – в каждом отъятом от нее фрагменте. На нее волнами накатывал смех голодранцев. Разнимавшие Птицу руки Морокуньи опустились, и даже маленькие невинные создания, всякие паучки и черви, запущенные в тело пленницы, дабы упростить преображение, унялись. Исчезло все – в конце концов остались только голова лиса на стене, благожелательно глядящая на нее сверху вниз, источающая тот неувядающий вечный синеватый свет, да агония, да чудо-компас, все еще живой, тайно пульсировавший и старательно скрывающийся от пытливой Морокуньи. Пульсировавший для нее одной, дико зудевший – и все же одним своим присутствием дававший понять, что она до сих пор жива. Маяк, зовущий на юго-восток – вот во что превратился компас в ее сознании. Но сама она последовать зову не могла – видимо, юго-восток должен был проследовать к ней. Пульс компаса был пульсом разума Странной Птицы, биением ее сердца, трепетом того живого, что еще осталось в ее теле. Все это спасало Странную Птицу, пусть даже птицей она и перестала быть. Маяк, означавший нечто отличное от плоти, все еще жил в ней.
Как говорила Санджи, ее надзирательница и подруга:
– Нет ничего постыдного в том, чтобы сгинуть во мрак. Нет ничего постыдного в том, чтобы на время сдаться.
Как говорил Старик, чей труп остался снаружи:
– Теперь я – обитатель тьмы. Здесь живу, здесь умираю, здесь опять-таки живу.
Даже оставшись без своих крыльев, Птица, в новообретенной протяженно-сплюснутой форме, занимала весь стол. Тянулся за часом час. Голодранцы разбежались – им наскучило ожидание. Остались только Лис и Морокунья. У Лиса особого выбора, впрочем, не было.
Морокунья утерла трудовой пот с лица и смерила взглядом новое творение, взиравшее в ответ глазами, скрытыми среди переливчатых перьев, глотавшее воздух перемещенным на изнанку рыбьим ртом.
– Когда отойдешь от шока – будешь моим выходным плащом, – сказала она. – И когда я буду носить тебя, плащик-невидимка, никто и знать не будет, как близко я подошла. Может, ты сама и не разделяешь мои чувства, но лично я безумно рада обновке. Не отчаивайся перед лицом перемен – за них мы всегда платим. Кто-то меньше, как я, кто-то больше, как ты.
Нечто на каменном столе обвисло – безвольное и недвижимое. Оно уже обрело цвет и текстуру, присущие ему. Нечто на столе внимало позывным маяка, считывало ритм и ждало.
Куда стремиться? На что надеяться? Где обрести покой?
Четвертый сон
В четвертом сне Санджи – птица, и она летит рядом со Странной Птицей высоко над землей, где не заметны и не ощущаются боль и отчаяние. Как птица Санджи, может быть, не прямо-таки Странная, но причудливая – уж точно: гобелен ее плоти соткан из множества самых разных животных, крылатых и бескрылых. Но все-таки – Санджи летит!
А Странная Птица теперь сделана из воздуха, а не из плоти. Она наслаждается своей воздушностью, упивается ей, ее порыв незрим и исполнен торжества. Она задается вопросом, почему Санджи избрала птичье обличье. Ведь могла бы запросто стать ветром. Стать ничем.
В этом сне Странная Птица задерживается надолго. Так долго, как только возможно.
Плащ и время
Удивительно, но Чарли Иксу она полюбилась. Ему нравилось пробегаться грубыми пальцами по ее оперению – в те моменты, когда Морокунья, как Чарли полагал, не видела. По его касаниям Странная Птица многое узнавала о своей нынешней форме – иные части ее тела сделались безответными, немыми, и только руки человека с головой нетопыря могли теперь помочь понять, что с ними стало.
– Мягкая, – бубнил Чарли Икс, будто не встречавший ничего мягкого доселе. – Очень красивая. – Он восхищался ей как собственным созданием, но ведь все, что он сделал, – убил и обглодал Старика, а Птицу изловил и принес в подарок существу еще более чудовищному, чем он сам.
Морокунья частенько перерезала Чарли Иксу горло, но он возвращался снова и снова, и Птица все сильнее свыкалась с ним, все больше на него полагалась. Она потеряла счет его бессмысленным экзекуциям и не знала, сколько раз из его горла лезли мыши, но от нее никак не укрылось, что руки Чарли с каждым разом дрожат все сильнее, а безумная тоска, что ранее читалась лишь в глазах, сказалась и на изуродованном его лице.
Странная Птица ненавидела его касания. То, что он дал ей прочувствовать, он же у нее и отнял стократ, а ответить чем-либо она не могла. Теперь она была как Старик в люке – что-то внутри, что-то снаружи. Сбитая с толку, она кружила на одном месте, приходя раз за разом в исходную точку – без шанса на побег, но с возможностью оного.
Странная Птица не могла снова стать собой после всего того, что с ней сотворили. Она осталась без крыльев, и шок от такой утраты смягчался лишь тем, что Морокунья лишила ее широкого спектра чувств. Ее рот больше не годился для трелей – только для мелких суетных вдохов. Теперь ее глаза видели только то, что было над ней, когда Морокунья укладывала ее спать ночью, и то, что было над ней, когда вставало солнце, прежде чем Морокунья же снова поднимала ее.
Меж этих двух состояний не ведала Птица утешения настоящего сна, а лишь ныряла в болезненную полудрему. Она всегда чувствовала себя измученной и постоянно забывала про свои увечья – била крыльями, которых не было, посылая приступы дрожи через свое гладкое и тонкое бесформенное тело. На какое-то время осознание того, чем она стала, улетучивалось из ее памяти.
В одну из первых ужасных ночей Морокунья, сама не своя от гордости за себя, отдала плащ голодранцам, и с ним они бегали по обсерватории, держа живую реликвию высоко над головами, – как некогда держали Чарли Икса. Не оставалось места, которого бы не коснулись их грязные руки. Они тянули плащ в разные стороны, пробуя разорвать, пробовали пальцами провертеть в нем дырки и даже прокусить. По всему этому Странная Птица поняла, что свои сумасбродные ясли Морокунья использует для проверки своих творений на прочность.