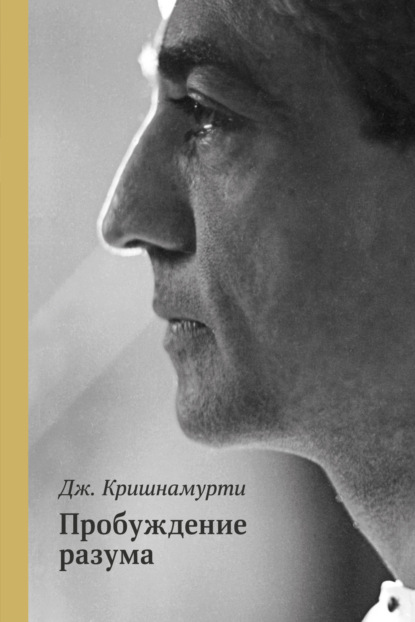По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пробуждение разума
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К.: Я задал этот вопрос себе. Никто мне его не задавал. Потому что это проблема жизни, проблема существования в этом мире. Это проблема, которую должен решить мой ум. Может ли ум со всем его содержанием опустошить себя и всё же остаться умом, а не просто расплыться?
Н.: Это не самоубийство.
К.: Нет.
Н.: Здесь есть своего рода тонкое…
К.: Нет, сэр, это слишком незрело. Я задал вопрос. Мой ответ таков: «Я действительно не знаю».
Н.: И это правда так.
К.: Я действительно не знаю. Но я намерен выяснить – но не в том смысле, что я буду ждать, пока это выяснится. Содержание моего сознания – это мои несчастья, моё ничтожество, моя борьба, мои скорби, образы, которые я накопил за жизнь, мои боги, разочарования, удовольствия, страхи, страдания, ненависть – это и есть моё сознание. Может ли всё это быть полностью выброшено? Не только на поверхностном уровне, но и из так называемого бессознательного? Если это невозможно, тогда я должен жить несчастной жизнью, я должен жить в нескончаемой, бесконечной скорби. Нет ни надежды, ни отчаяния, я в тюрьме. Значит, ум должен узнать, как опустошить себя от всего своего содержания, и всё же жить в этом мире, не стать идиотом, а иметь мозг, функционирующий эффективно. Так как же это сделать? Можно ли это сделать? Или у человека нет выхода?
Н.: Я понимаю.
К.: Поскольку я не вижу, как выбраться из всего этого, я изобретаю всех этих богов, храмы, философии, ритуалы – вы понимаете?
Н.: Понимаю.
К.: Это медитация – подлинная медитация, а не всё это надувательство. Увидеть, может ли ум – с мозгом, который развился во времени, который является результатом тысяч переживаний и который эффективно функционирует только в полной безопасности, – может ли такой ум опустошить себя и всё же иметь мозг, функционирующий как чудесная машина. Он видит также, что любовь – не удовольствие, любовь – не желание. Когда есть любовь, образа нет, но я не знаю, что это за любовь. Я хочу любви лишь в качестве удовольствия, секса и всего такого. Должна быть какая-то взаимосвязь между опустошением сознания и тем, что называют любовью, между неизвестным и известным, составляющим содержание сознания.
Н.: Я вас понимаю. Должна существовать такая взаимосвязь.
К.: Они должны быть в гармонии. Опустошение и любовь должны быть в гармонии. И возможно, что необходима только любовь и ничего больше.
Н.: Это опустошение – другое название любви, – вы говорите об этом?
К.: Я только спрашиваю, что такое любовь. Находится ли любовь внутри поля сознания?
Н.: Нет, этого не может быть.
К.: Не ставьте предварительных условий. Никогда не говорите «да» или «нет» – выясняйте! Любовь внутри содержания сознания – это удовольствие, амбиции и всё такое. Тогда что же такое любовь? Я действительно не знаю. Я ни на что больше не претендую. Я не знаю. Есть в этом определённый фактор, который я должен прояснить. Является ли опустошение сознания с его содержанием любовью, которая представляет собой неизвестное? Каково отношение между известным и неизвестным? Не таинственным неизвестным, Богом или как вы ещё это назовёте. Мы придём к Богу, если пройдём через это. Взаимосвязь между неизвестным, которого я не знаю и которое может быть названо любовью, и содержанием сознания, которое я знаю (оно может быть неосознанным, но я могу раскрыть его и узнать), – какова эта взаимосвязь, это отношение между известным и неизвестным? Движение между известным и неизвестным есть гармония, разумность, не так ли?
Н.: Несомненно.
К.: Поэтому я должен узнать – ум должен узнать, – как опустошить своё содержание. То есть как не иметь образа, а потому не иметь и наблюдателя. Образ означает прошлое, будь это образ, который имеет место сейчас, или образ, который я проецирую в будущее. Значит, никакого образа – ни доктрины, ни идеи, ни идеала, ни принципа: всё это подразумевает образ. Можно ли не формировать никакого образа вообще? Вы причиняете мне вред или доставляете мне удовольствие, и потому у меня есть некий ваш образ. Следовательно, никакого формирования образа, когда вы вредите мне или доставляете удовольствие.
Н.: Это возможно?
К.: Конечно. Иначе я обречён.
Н.: Вы обречены. Иными словами, я обречён.
К.: Мы обречены. Возможно ли, когда вы оскорбляете меня, быть полностью бдительным, внимательным так, чтобы это не оставило следа?
Н.: Я знаю, что вы имеете в виду.
К.: И когда вы льстите мне – никакого следа. Тогда нет образа. Значит, я это сделал, ум это сделал, то есть нет никакого формирования образа. Если вы не формируете образ сейчас, то и прошлым образам нет места.
Н.: Этого я не понял. «Если я не формирую образ сейчас…»?
К.: Прошлым образам нет места. Если вы формируете образ, тогда вы связаны с ним.
Н.: Вы связаны с прошлыми образами. Это верно.
К.: А если вы не формируете никакого образа?
Н.: Тогда вы свободны от прошлого.
К.: Увидьте это! Увидьте!
Н.: Очень чётко.
К.: Следовательно, ум может опустошить себя от образов, не формируя какой-либо образ сейчас. Если я формирую образ сейчас, я соотношу его с прошлыми образами. Значит, сознание, ум, может опустошить себя от всех образов, не формируя образ сейчас. Тогда есть пространство – не пространство вокруг центра. И если человек ныряет, погружается в него гораздо глубже, то там есть нечто священное, не изобретённое мыслью, не имеющее ничего общего с какой-либо религией.
Н.: Благодарю вас.
* * *
Н.: У меня есть ещё вопрос, который я хотел задать вам. Мы видим глупость столь многих традиций, почитаемых людьми сегодня, но разве нет определённых традиций, передававшихся из поколения в поколение, которые ценны и необходимы и без которых мы бы утратили ту небольшую человечность, которой сегодня обладаем? Разве нет традиций, основанных на чём-то реальном, которые продолжают передаваться?
К.: Продолжают передаваться…
Н.: Способны жить, даже если только во внешнем смысле.
К.: Если бы меня с детства не научили не выбегать на дорогу перед автомобилем…
Н.: Это было бы простейшим примером.
К.: Или быть осторожным с огнём, остерегаться рассерженной собаки, которая может укусить вас, и так далее. Это тоже традиция.
Н.: Да, несомненно так.
К.: Другого рода традиция заключается в том, что вы должны любить.
Н.: Это другая крайность.
К.: И традиция ткачей в Индии и других местах. Знаете, они могут ткать без образца, и всё же ткут по традиции, которая так глубоко укоренилась, что им даже не нужно думать о ней. Она у них в руках. Я не знаю, видели ли вы это когда-нибудь? В Индии существует поразительная традиция, и они производят чудесные вещи. Есть также традиция учёного, биолога, антрополога, представляющая собой традицию накопления знаний, передаваемых одним учёным другому, одним врачом другому, традиция обучения. Очевидно, что такого рода традиция сущностно необходима. Я бы даже не стал называть это традицией, а вы?
Н.: Нет, это не то, что было у меня на уме. Под традицией я имел в виду образ жизни.
К.: Я бы не называл это традицией. Разве под традицией мы понимаем не какой-то другой фактор? Разве доброта – фактор традиции?
Н.: Нет, но возможно, есть добрые традиции.
К.: Добрые традиции, обусловленные культурой, в которой человек живёт. Доброй традицией среди брахманов было не убивать никаких человеческих существ или животных. Они приняли её и действовали соответственно. Мы спрашиваем: «Разве доброта традиционна? Может ли доброта действовать, процветать в традиции?»
Н.: Тогда я задам вопрос по-другому: существуют ли традиции, сформированные разумом индивида или коллектива, которые понимают человеческую природу?
Н.: Это не самоубийство.
К.: Нет.
Н.: Здесь есть своего рода тонкое…
К.: Нет, сэр, это слишком незрело. Я задал вопрос. Мой ответ таков: «Я действительно не знаю».
Н.: И это правда так.
К.: Я действительно не знаю. Но я намерен выяснить – но не в том смысле, что я буду ждать, пока это выяснится. Содержание моего сознания – это мои несчастья, моё ничтожество, моя борьба, мои скорби, образы, которые я накопил за жизнь, мои боги, разочарования, удовольствия, страхи, страдания, ненависть – это и есть моё сознание. Может ли всё это быть полностью выброшено? Не только на поверхностном уровне, но и из так называемого бессознательного? Если это невозможно, тогда я должен жить несчастной жизнью, я должен жить в нескончаемой, бесконечной скорби. Нет ни надежды, ни отчаяния, я в тюрьме. Значит, ум должен узнать, как опустошить себя от всего своего содержания, и всё же жить в этом мире, не стать идиотом, а иметь мозг, функционирующий эффективно. Так как же это сделать? Можно ли это сделать? Или у человека нет выхода?
Н.: Я понимаю.
К.: Поскольку я не вижу, как выбраться из всего этого, я изобретаю всех этих богов, храмы, философии, ритуалы – вы понимаете?
Н.: Понимаю.
К.: Это медитация – подлинная медитация, а не всё это надувательство. Увидеть, может ли ум – с мозгом, который развился во времени, который является результатом тысяч переживаний и который эффективно функционирует только в полной безопасности, – может ли такой ум опустошить себя и всё же иметь мозг, функционирующий как чудесная машина. Он видит также, что любовь – не удовольствие, любовь – не желание. Когда есть любовь, образа нет, но я не знаю, что это за любовь. Я хочу любви лишь в качестве удовольствия, секса и всего такого. Должна быть какая-то взаимосвязь между опустошением сознания и тем, что называют любовью, между неизвестным и известным, составляющим содержание сознания.
Н.: Я вас понимаю. Должна существовать такая взаимосвязь.
К.: Они должны быть в гармонии. Опустошение и любовь должны быть в гармонии. И возможно, что необходима только любовь и ничего больше.
Н.: Это опустошение – другое название любви, – вы говорите об этом?
К.: Я только спрашиваю, что такое любовь. Находится ли любовь внутри поля сознания?
Н.: Нет, этого не может быть.
К.: Не ставьте предварительных условий. Никогда не говорите «да» или «нет» – выясняйте! Любовь внутри содержания сознания – это удовольствие, амбиции и всё такое. Тогда что же такое любовь? Я действительно не знаю. Я ни на что больше не претендую. Я не знаю. Есть в этом определённый фактор, который я должен прояснить. Является ли опустошение сознания с его содержанием любовью, которая представляет собой неизвестное? Каково отношение между известным и неизвестным? Не таинственным неизвестным, Богом или как вы ещё это назовёте. Мы придём к Богу, если пройдём через это. Взаимосвязь между неизвестным, которого я не знаю и которое может быть названо любовью, и содержанием сознания, которое я знаю (оно может быть неосознанным, но я могу раскрыть его и узнать), – какова эта взаимосвязь, это отношение между известным и неизвестным? Движение между известным и неизвестным есть гармония, разумность, не так ли?
Н.: Несомненно.
К.: Поэтому я должен узнать – ум должен узнать, – как опустошить своё содержание. То есть как не иметь образа, а потому не иметь и наблюдателя. Образ означает прошлое, будь это образ, который имеет место сейчас, или образ, который я проецирую в будущее. Значит, никакого образа – ни доктрины, ни идеи, ни идеала, ни принципа: всё это подразумевает образ. Можно ли не формировать никакого образа вообще? Вы причиняете мне вред или доставляете мне удовольствие, и потому у меня есть некий ваш образ. Следовательно, никакого формирования образа, когда вы вредите мне или доставляете удовольствие.
Н.: Это возможно?
К.: Конечно. Иначе я обречён.
Н.: Вы обречены. Иными словами, я обречён.
К.: Мы обречены. Возможно ли, когда вы оскорбляете меня, быть полностью бдительным, внимательным так, чтобы это не оставило следа?
Н.: Я знаю, что вы имеете в виду.
К.: И когда вы льстите мне – никакого следа. Тогда нет образа. Значит, я это сделал, ум это сделал, то есть нет никакого формирования образа. Если вы не формируете образ сейчас, то и прошлым образам нет места.
Н.: Этого я не понял. «Если я не формирую образ сейчас…»?
К.: Прошлым образам нет места. Если вы формируете образ, тогда вы связаны с ним.
Н.: Вы связаны с прошлыми образами. Это верно.
К.: А если вы не формируете никакого образа?
Н.: Тогда вы свободны от прошлого.
К.: Увидьте это! Увидьте!
Н.: Очень чётко.
К.: Следовательно, ум может опустошить себя от образов, не формируя какой-либо образ сейчас. Если я формирую образ сейчас, я соотношу его с прошлыми образами. Значит, сознание, ум, может опустошить себя от всех образов, не формируя образ сейчас. Тогда есть пространство – не пространство вокруг центра. И если человек ныряет, погружается в него гораздо глубже, то там есть нечто священное, не изобретённое мыслью, не имеющее ничего общего с какой-либо религией.
Н.: Благодарю вас.
* * *
Н.: У меня есть ещё вопрос, который я хотел задать вам. Мы видим глупость столь многих традиций, почитаемых людьми сегодня, но разве нет определённых традиций, передававшихся из поколения в поколение, которые ценны и необходимы и без которых мы бы утратили ту небольшую человечность, которой сегодня обладаем? Разве нет традиций, основанных на чём-то реальном, которые продолжают передаваться?
К.: Продолжают передаваться…
Н.: Способны жить, даже если только во внешнем смысле.
К.: Если бы меня с детства не научили не выбегать на дорогу перед автомобилем…
Н.: Это было бы простейшим примером.
К.: Или быть осторожным с огнём, остерегаться рассерженной собаки, которая может укусить вас, и так далее. Это тоже традиция.
Н.: Да, несомненно так.
К.: Другого рода традиция заключается в том, что вы должны любить.
Н.: Это другая крайность.
К.: И традиция ткачей в Индии и других местах. Знаете, они могут ткать без образца, и всё же ткут по традиции, которая так глубоко укоренилась, что им даже не нужно думать о ней. Она у них в руках. Я не знаю, видели ли вы это когда-нибудь? В Индии существует поразительная традиция, и они производят чудесные вещи. Есть также традиция учёного, биолога, антрополога, представляющая собой традицию накопления знаний, передаваемых одним учёным другому, одним врачом другому, традиция обучения. Очевидно, что такого рода традиция сущностно необходима. Я бы даже не стал называть это традицией, а вы?
Н.: Нет, это не то, что было у меня на уме. Под традицией я имел в виду образ жизни.
К.: Я бы не называл это традицией. Разве под традицией мы понимаем не какой-то другой фактор? Разве доброта – фактор традиции?
Н.: Нет, но возможно, есть добрые традиции.
К.: Добрые традиции, обусловленные культурой, в которой человек живёт. Доброй традицией среди брахманов было не убивать никаких человеческих существ или животных. Они приняли её и действовали соответственно. Мы спрашиваем: «Разве доброта традиционна? Может ли доброта действовать, процветать в традиции?»
Н.: Тогда я задам вопрос по-другому: существуют ли традиции, сформированные разумом индивида или коллектива, которые понимают человеческую природу?