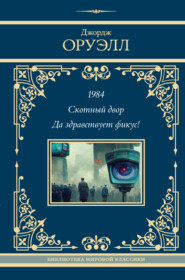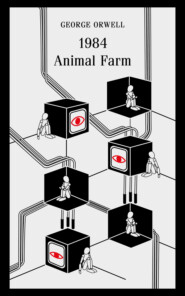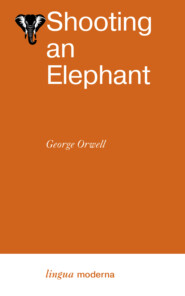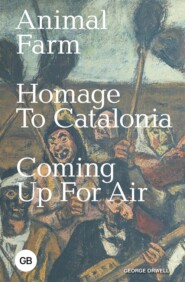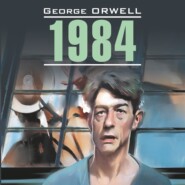По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дочь священника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как повелось, здесь была только одна прихожанка, престарелая мисс Мэйфилл из Грандж. Посещаемость в день Святого Причастия такая плохая, что Пастор не мог даже нанять прислуживать мальчиков, разве что для Воскресной утренней службы, когда мальчикам хотелось покрасоваться перед прихожанами в рясах и стихарях. Дороти прошла в ряд за мисс Мэйфилл и, каясь за вчерашние грехи, отодвинула подушечку и опустилась на колени прямо на каменный пол. Началась служба. Пастор, в сутане и полотняном стихаре, повторял молитву заученно быстро, но на удивление нескладно, хотя и ясно было, что зубы на месте. Его привередливое, старое лицо, бледное, как серебряная монета, хранило выражение отчужденности и даже презрения. «Да, это подлинное причастие», – казалось, говорил он, – «и моя обязанность донести его до вас. Но не забывайте, что я священник, а не ваш друг. И как человек, я вас ненавижу и презираю». Проггет, пономарь прихода, сорокалетний мужчина с вьющимися седыми волосами и беспокойным красным лицом, с видом непонимания, но благоговения, терпеливо стоял рядом, возясь с маленьким колокольчиком, затерявшимся в его огромных красных руках.
Дороти прижала пальцы к глазам. Ей так и не удалось собраться с мыслями: и право, беспокойство из-за этого счета от Каргилла не оставляло её в покое. Молитвы, которые она знала наизусть, текли бездумно в ее голове. Стоило ей поднять глаза, как взгляд начал переходить с одного на другое. Сначала она посмотрела наверх, на безглавых ангелов у крыши, на чьих шеях сохранились следы пил солдат-пуритан. Потом взгляд ее вернулся назад, к черной шляпке в стиле «свиной пирожок» на мисс Мэйфилл, и к ее подрагивающим черным серьгам. Мисс Мэйфилл носила длинное слежавшееся черное пальто с маленьким, засаленного вида каракулевым воротничком, то самое пальто, которое всегда было на мисс Мэйфилл с тех пор, как Дороти её узнала. Пальто было из какого-то особенного материала, напоминавшего шелковый муар, но гораздо грубее, с черным рубчиком, образующим недоступный пониманию узор. Возможно даже, что сшито оно было не из чего иного, как из пресловуто-легендарного черного бамбазина.[4 - Черный бамбазин – материал, использовавшийся для траурной одежды, но к началу двадцатого столетия вышедший из моды.]
Мисс Мэйфилл была очень старой, такой старой, что никто и не помнил ее иначе, как старухой. Она источала слабый запах, некий бесплотный запах, в котором можно было распознать одеколон, шарики от моли и лёгкий аромат джина.
Из отворота куртки Дороти вытащила длинную булавку со стеклянной головкой и незаметно, под прикрытием спины мисс Мэйфилл, вонзила острие себе в предплечье. Плоть содрогнулась. Дороти взяла себе за правило, стоило ей только поймать себя на отвлеченности мысли во время молитвы, сильно, до крови, прокалывать себе руку. Такова была выбранная ею самой форма самодисциплины, её защита от непочтительных, кощунственных мыслей.
С булавкой наготове ей удалось продержаться несколько минут, сосредоточившись на молитве. Отец неодобрительно скосил тёмный глаз на мисс Мэйфилл, которая крестилась в паузах, – такую практику он не одобрял. На улице защебетал скворец. Дороти вдруг с ужасом обнаружила, что не без тщеславия поглядывает на складки отцовского стихаря, который сама ему сшила два года назад. Стиснув зубы, она вогнала булавку в руку на одну восьмую дюйма.
Опять встали на колени. Шла общая исповедь. Дороти опять подумала о глазах. Увы! Они вновь блуждали и остановились теперь на витраже справа, выполненном по проекту Сэра Уарда Туки в 1851 году, изображавшем святого Этельстана, которого у небесных врат приветствовал Габриэль со свитой ангелов, удивительно похожих друг на друга, и принц-консорт. И вновь острие булавки вонзилось в другое место на ее руке. Дороти стала старательно размышлять над каждой фразой молитвы и таким образом вернула своим мыслям надлежащий ход. Но даже после этого чуть было не пришлось воспользоваться булавкой еще раз: когда Проггет в середине фразы «И тогда со всеми ангелами и архангелами» звякнул колокольчиком, её, как обычно, посетило ужасное желание расхохотаться в этом месте. А всё из-за той истории, что однажды рассказал ей отец. Истории о том, что когда он был маленьким мальчиком и прислуживал священнику у алтаря, на колокольчике в том приходе был прикручивающийся язычок, который раскрутился, и поэтому священник тогда проговорил: «И тогда со всеми ангелами и архангелами, и со всеми силами небесными, мы восхваляем славное имя Твоё, славим навеки и говорим… ну вкрути же его, тупица, вкрути!»
Когда Пастор закончил освящение, мисс Мэйфилл очень медленно, с большим трудом начала подниматься на ноги. Она напоминала некое существо, составленное из разрозненных деревяшек, которое теперь пытается собраться воедино, испуская при каждом движении запах шариков от моли. При этом раздавался какой-то скрипучий звук, вероятно, от её корсета, но походил он на звук, который издают кости, когда трутся одна о другую. Можно было подумать, что под черным пальто скрывается один лишь сухой скелет.
Дороти немного задержалась на месте. Мисс Мэйфилл продвигалась к алтарю медленными, нетвердыми шажками. Она едва могла идти, но предложи ей сейчас помощь, она отвергла бы ее с горькой обидой. На ее древнем, бескровном лице рот казался на удивление большим, расслабленным и влажным. Отвисшая с возрастом нижняя губа слюняво выдвинулась вперед, обнажая полоску десны и ряд вставных зубов, желтых, как клавиши старого фортепиано. На верхней губе – бахрома тёмных влажных волос. Рот неаппетитный – явно не захотелось бы смотреть, как им пьют с тобой из одной чашки. Внезапно, спонтанно, словно здесь распорядился сам дьявол, у Дороти сорвались с языка слова молитвы: «О Господи, не дай мне испить из чаши после мисс Мэйфилл».
В следующий же миг она с ужасом осознала значение сказанного и пожалела, что не откусила себе язык вместо того, чтобы допустить такое богохульство на ступенях алтаря. Вновь вытащила она булавку из отворота куртки и с такой силой воткнула в руку, что ей понадобилось большое усилие, чтобы подавить крик боли. Затем она встала к алтарю и покорно опустилась на колени слева от мисс Мэйфилл – таким образом ей точно придется пить из чаши после последней.
Коленопреклоненная, с опущенной головой и крепко сжатыми руками, пока отец не подошел к ней с водой, Дороти начала молить о прощении. Но течение её мысли прервалось. Неожиданно попытка молиться оказалась бесполезной. Губы двигались, но в словах, что она произносила, не было ни смысла, ни значения. Она слышала шаркающие шаги Проггета и ясный низкий голос отца, бубнящего «Возьми и съешь»; она видела под своими коленями полосу протершегося красного ковра, чувствовала запах одеколона и нафталиновых шариков, но о плоти и крови Христовой, о самой цели, которая привела ее сюда, она, казалось, лишилась способности размышлять. Мертвящая пустота окутала ее сознание. Дороти показалось, что она просто не может молиться. Она сделала над собой усилие, собралась с мыслями, произнесла механически начальные фразы молитвы… но все бесполезно, бессмысленно – ничего, лишь пустая скорлупа слов. Отец держал перед ней воду в мясистой старческой руке. Он держал ее большим и указательным пальцами, брезгливо, как что-то неприятное, будто то была ложка с лекарством. Взгляд его был направлен на мисс Мэйфилл, которая при движении складывалась как гусеница-землемер, еще и издавала скрип, и крестилась при этом столь усердно, что можно было подумать, будто она примеряется, как уложить декоративный кант на пальто спереди. Несколько секунд Дороти не решалась брать воду. Но не взять – не осмелилась. Гораздо лучше было бы отойти от алтаря, чем причащаться с такой смутой в душе.
И вдруг случилось так, что взгляд ее скользнул в сторону, вдоль прохода, и дальше, через открытую дверь южного входа. Мимолетное копье солнечного света пронзило облака. Оно ударило вниз, через листья липы, и хоровод листьев у входа блеснул прозрачным, невиданным зеленым цветом, зеленее чем нефрит или изумруд, или воды Атлантики. Словно некий драгоценный камень вспыхнул на миг невероятным блеском, залил весь проход зеленым светом, а потом потускнел. Радость наполнила сердце Дороти. Эта вспышка живого цвета, неподвластным логическому осмыслению путём, вернула Дороти её душевный покой, её любовь к Богу, её силу боготворить. Почему-то после этой зелени листьев, к ней вернулась способность молиться. «О вся зелень на земле, будь благословенна!»[5 - «О вся зелень на Земле, будь благословенна!» – Из Книги пророка Даниила (3,57–88 и 56).] Она начала горячо молиться, с радостью и благодарностью. Облатка растаяла у неё на языке. Дороти приняла чашу из рук отца и без отвращения, даже с удвоенной радостью от этого небольшого самоуничижения, ощутила на её серебряном ободке след губ мисс Мэйфилл.
§ II
Церковь святого Этельстана стояла на самой высокой точке Найп-Хилла, так что если подняться на колокольню, можно было разглядеть земли миль на десять вокруг. Смотреть особенно не на что – только низкий, немного холмистый пейзаж Восточной Англии, невыносимо унылый летом, а зимой оживающий благодаря повторяющемуся узору разросшихся вязов, оголенных и веерообразных, на фоне свинцового неба.
Прямо под вами лежал городок, с главной улицей, бегущей с востока на запад и неравно разделяющей его на две части. Южная часть городка была древней, сельскохозяйственной, и пользовалась уважением. В северной же части находились строения рафинадной фабрики сахарной свёклы Блифила-Гордона, а вокруг них и на подступах, тут и там, были разбросаны беспорядочными рядами уродливые коттеджи из желтого кирпича, в которых проживали в основном работники предприятия. Среди фабричных рабочих, составлявших более половины двухтысячного населения городка, были приезжие и деревенщина, и при этом почти все до единого безбожники.
Двумя главными стержнями, или центрами, вокруг которых вращалась общественная жизнь городка, был Клуб консерваторов Найп-Хилла (имеющий полную лицензию), из эркерного окна которого в любое время после открытия бара видны были лоснящиеся, розовые лица местной элиты, выглядывавшие оттуда словно толстые золотые рыбки из-за стеклянной панели аквариума, и, немного дальше по главной улице, «Йе Олдэ Ти Шоппе», старая чайная – главное заведение для рандеву местных дам.
Не прийти в «Йе Олдэ Ти Шоппе» каждое утро с десяти до одиннадцати, чтобы выпить свой «утренний кофе» и провести полчаса или около того в этом гармоничном щебетании представителей высшего общества среднего класса («Моя дорогая, у него было девять пик на туза и даму, и он ни разу не пошёл с козыря, если позволите. Что? Моя дорогая, вы же не хотите сказать, что снова оплатите мой кофе? О, моя дорогая, как же это мило! Но завтра я прямо-таки настаиваю: обязательно заплачу за вас. Ах, вы только посмотрите как милый маленький Тото ровненько сидит и выглядит, как умный человечек со своим маленьким шевелящимся чёрным носиком, и он бы… будь он… утёнок мой…и если бы его хозяйка дала бы ему кусок сахара, она бы… он бы… Вот, Тото!) – означало, точно не состоять в обществе Найп-Хилла. Пастор язвительно называл этих дам «кофейной бригадой». Рядом с колонией лубочных вилл, заселенных этой кофейной бригадой, находился Грандж, дом мисс Мэйфилл: любопытная пародия на замок из темно-красного кирпича машинной обработки – плод чьего-то сумасбродства, – возведенный около 1870, и, к счастью, почти запрятанный за густыми кустами.
Дом Пастора стоял на полпути до вершины холма, фасадом к церкви и тыльной стороной к главной улице. Это был дом из другой эпохи, неприлично большой, и с постоянно отслаивающейся жёлтой штукатуркой. Прежний пастор пристроил с одной стороны большую оранжерею, которую Дороти использовала как рабочее помещение, которому, постоянно требовался ремонт. Палисадник задушили обтрепавшиеся ели и огромный раскидистый ясень, затенявшие передние комнаты и не дававшие выращивать цветы. Позади был большой огород. Весной и осенью Проггет тщательно пропахивал огород, а Дороти сеяла, сажала и полола в то оставшееся свободное время, которым могла распоряжаться. Несмотря на это, огород все равно по большей части представлял собой непроходимые заросли сорняков.
Дороти соскочила с велосипеда у главных ворот, на которые какой-то официальный представитель наклеил плакат с надписью «Голосуй за Блифила-Гордона и высокие зарплаты!» (Как раз шла предвыборная компания, и г-н Блифил-Гордон представлял интересы консерваторов.). Открыв входную дверь, Дороти увидела два письма, упавшие на старый кокосовый коврик у двери. Одно было от сельского священника, а другое, тонкое и неприятное на вид, от «Кэткин энд Палм», портных ее отца. Несомненно, это был счёт. Пастор, как правило, придерживался практики забирать лишь те письма, которые его интересовали, а прочие оставлять. Наклонившись, чтобы поднять письма, Доротис ужасом увидела торчащий из почтового ящика немаркированный конверт.
Это был счёт – несомненно, счёт! Причём только взглянув на него, она сразу поняла, что это тот самый ужасный счёт от Каргилла, мясника. У неё внутри все оборвалось. Она даже начала было молиться, чтобы это оказался не счёт от Каргилла, а только лишь тот счёт на три и девять от Соулипайпа, торговца тканями, или счёт от Интернешнл, от пекаря, или молочника – от кого угодно, только не от Каргилла! Затем, заставив себя не паниковать, она вынула конверт из щели почтового ящика и судорожным движением разорвала его.
«По счёту полагается к оплате: 21 Фунт 7 шиллингов 9 пенсов.»
Это было написано безобидным почерком бухгалтера г-на Каргилла.
Однако снизу, жирными, безапелляционными буквами, было добавлено и жирно подчёркнуто:
«Хотелось бы обратить внимание, что счёт ждёт оплаты очень длительное время. Надлежит решить вопрос как можно скорее.
С. КАРГИЛЛ»
Дороти еще больше побледнела и почувствовала, что завтракать она определенно не хочет. Она засунула счёт в карман и пошла в столовую. Эта небольшая, темная комната, отчаянно нуждавшаяся в новых обоях, и, как и все прочие комнаты в пасторском доме, казалось, была обставлена мебелью, выброшенной из антикварного магазина. Мебель была «хорошей», но истрепавшейся до такого состояния, когда реставрация уже невозможна. Стулья так сильно изъедены жучками, что сидеть на них более-менее безопасно можно было лишь зная индивидуальные особенности каждого. На стенах висели старые, тёмные, потёртые стальные гравюры, одна из которых – портрет Карла I с подписью Ван Дейка – возможно, имела бы ценность, не будь она испорчена сыростью.
Пастор стоял перед пустым камином, греясь у воображаемого огня, и читал письмо из длинного синего конверта. На нем все ещё была ряса из чёрного переливающегося шелка, которая идеально подчеркивала его густые седые волосы и бледное, благородное, не очень-то дружелюбное лицо. Когда Дороти вошла, он отложил письмо, вытащил свои золотые часы, и стал рассматривать их с многозначительным видом.
– Боюсь, я немного опоздала, отец.
– Да, Дороти, ты немного опоздала, – сказал Пастор, повторяя ее слова и мягко, но заметно их подчеркивая, – на двадцать минут, если быть точным. Не думаешь ли ты, Дороти, что когда мне надо вставать в шесть пятнадцать, чтобы провести обряд Святого причастия, и когда я возвращаюсь очень уставший и голодный, было бы лучше, если бы ты могла прийти на завтрак, немного не опоздав?
Было очевидно, что Пастор пребывает в «неудобном настроении», как иронично называла это Дороти. У него был усталый, деланный тон, который не был однозначно злым, но притом никак не походил на добродушный. Казалось, что он всё время повторяет: «Просто не понимаю, почему ты из всего делаешь проблему!» Создавалось впечатление, что он постоянно страдает из-за глупости и ограниченности других людей.
– Извините, отец. Просто я должна была справиться о здоровье миссис Тоуни (миссис Тоуни была в «памятном списке» под буквой Т.). Вчера ночью у неё родился ребёнок, и, как вы знаете, она обещала прийти после этого для воцерковления. Но, конечно, она не придёт, если подумает, что мы не проявляем к ней никакого интереса. Вы знаете этих женщин – можно подумать, они ненавидят воцерковление. Они ни за что не приходят, если я их не уговорю.
Пастор не стал ворчать, но издал выражавший некоторое неодобрение звук и направился к столу с завтраком. Звуком этим он намеревался выразить, во-первых, что обязанность прийти для воцерковления лежала на миссис Тоуни без каких-либо уговоров со стороны Дороти, и, во-вторых, что это не дело – тратить понапрасну время на посещение всякой шелупони в городе, особенно перед завтраком. Миссис Тоуни была женой рабочего и жила в partibus infidelium[6 - in partibus infidelium (лат.) – среди неверных.] в северной части Хай-стрит. Пастор положил руку на спинку стула и, ничего не сказав, бросил на Дороти взгляд, означавший: «Ну теперь ты готова? Или сегодня будут еще какие-то проволочки?».
– Думаю, что всё готово, отец, – сказала Дороти. – Может быть, если вы прочтёте молитву…
– Benedictus benedicat,[7 - Benedictus benedicat (лат.) – Благословен будь (начало молитвы).] – сказал Пастор, поднимая отслужившую своё серебристую салфетку с блюда для завтрака. Серебристая салфетка, как и серебряная с позолотой ложка для мармелада, были семейными реликвиями, тогда как ножи, вилки и большая часть посуды были из сетевых супермаркетов Вулворта.
– Как я вижу, снова бекон, – добавил пастор, взглянув на три свёрнутых тонюсеньких ломтика бекона, лежавших на квадратиках поджаренного хлеба.
– Боюсь, это всё, что есть у нас дома, – сказала Дороти.
Пастор взял вилку двумя пальцами и, очень деликатными движениями, будто он играет в бирюльки, перевернул один из ломтиков.
– Конечно я понимаю, – сказал он, – что бекон на завтрак – непременный атрибут английского образа жизни, такой же старый, как парламентское правительство. И всё-таки, не считаешь ли ты, что мы могли бы время от времени что-то менять, Дороти?
– Бекон сейчас такой дешёвый, – сказала Дороти с сожалением. – Просто грех его не покупать. Вот этот – всего по пять пенсов за фунт. А я видела бекон, довольно приличного вида, за три пенса.
– Полагаю, датский? В какой только форме датчане не проникли в эту страну! Сначала с огнём и мечом, а теперь с их неудобоваримым дешёвым беконом. Хотелось бы мне знать, что привело к большему количеству смертей!
Почувствовав себя немного лучше от такой остроты, Пастор уселся на свой стул и замечательно позавтракал презренным беконом, тогда как Дороти (которая в это утро оставила себя без бекона: наказание, установленное для себя из-за сказанного вчера слова «чёрт» и получасового бездельничанья после ланча) тем временем обдумывала, как лучше начать разговор.
Перед ней стояла настолько ненавистная задача, что и словами не выразить: просить денег. Даже в самые лучшие времена получить деньги от отца было делом почти невыполнимым. Было очевидно, что сегодня утром он будет ещё более «несговорчивым», чем обычно. Слово «несговорчивый» было ещё одним эвфемизмом Дороти. Наверно, он получил плохие известия, подумала Дороти, глядя на синий конверт.
Вероятно, не было человека, который, поговорив с Пастором минут десять, стал бы отрицать, что последний был человеком «несговорчивым». Секрет его неизменно мрачного юмора скрывался за тем фактом, что Пастор был анахронизмом. Ему ни в коем случае нельзя было рождаться в современном мире; сама атмосфера современности вызывала в Пасторе отвращение и гнев. Каких-нибудь пару веков назад счастливый священник, владеющий несколькими бенефициями, пописывающий стишки и собирающий окаменелости (в то время как викарии за сорок фунтов в год управляли его приходами), он был бы в своей стихии. Даже сейчас, будь он побогаче, он мог бы утешиться, выбросив из головы двадцатый век. Но жить в последнее время стало очень дорого; для этого нужно иметь не менее двух тысяч в год. Пастор, со своей бедностью привязанный к веку Ленина и «Дейли Мэйл», пребывал в состоянии постоянного раздражения, которое, что вполне естественно, он выливал на человека, который был к нему ближе всего, – то есть, как правило, на Дороти.
Пастор родился в 1871, младший сын младшего сына баронета, и направил свои стопы в Церковь по старомодной причине: профессия, традиционная для младших сыновей.[8 - Баронет – наследственный дворянский титул, средний между титулами высшей знати и низшего дворянства.] Первый его приход был в восточной части Лондона, в большом округе, среди трущоб и хулиганов, – в ужасном месте, которое он вспоминал с отвращением. Даже в те дни «низшие классы» (как он взял себе в обыкновение их называть) определённо становились неуправляемыми. Дела пошли немного лучше, когда он возглавил приход в одном отдалённом местечке в Кенте (Дороти родилась в Кенте), где порядком забитые деревенские жители всё ещё снимали перед «пастором» шляпу. Но к этому времени он женился, а женитьба его была дьявольски несчастливой. Да ещё, по причине того, что священники не имеют права ссориться со своими жёнами, его несчастье держалось в секрете, что во сто раз хуже. В Найп-Хилле он появился в 1908, в возрасте тридцати семи лет, с характером неисправимо испорченным, с характером, который привёл к тому, что всякий мужчина, всякая женщина, всякий ребёнок в приходе от него отвернулись.
Нельзя сказать, что он был плохим священником непосредственно как священник. В своих чисто священнических обязанностях он был скрупулёзно правилен, возможно, слишком уж правилен для прихода Низкой Церкви Восточной Англии.[9 - Низкая церковь (в отличие от Высокой церкви) – в Англиканском богослужении направление, стремящееся минимизировать роль духовенства, таинств и ритуальной части богослужения и придать большее значение евангелическим принципам.] Он проводил службу с большим вкусом, читал восхитительные проповеди и вставал в неудобные ранние часы каждое утро в среду и в пятницу, чтобы проводить Святое причастие. Но он никогда всерьёз не задумывался о том, что у священника есть обязанности и за четырьмя стенами церкви. За неимением возможности завести себе помощника, Пастор всю грязную работу в приходе оставлял для своей жены, а после её смерти (она умерла в 1921) – для Дороти. Частенько народ, злобно и не взаправду, поговаривал, что он бы и проповеди читать поручил Дороти, будь у него такая возможность. «Низшие классы» сразу же поняли, как он к ним относится, и, будь он человеком богатым, вероятно, бросились бы, как у них повелось, лизать его ботинки. А поскольку дело обстояло иначе – они его просто ненавидели. Нельзя сказать, что его волновало, ненавидят они его или нет, – он, по большей части, не задумывался об их существовании. Да и с высшими классами он ладил не лучше. Он перессорился с одним за другим, со всем населением графства. Как представитель городского дворянства, как внук баронета, он их презирал, и скрывать этого не собирался. В результате его успешной двадцатитрехлетней деятельности количество прихожан в церкви Св. Этельстана сократилось с шестисот до двухсот, а то и больше.
Произошло это не единственно по причине его личных качеств. Причина крылась также в старомодном англиканизме, которого Пастор был упрямым приверженцем, что раздражало в равной степени все партии в округе. В наше время для священника, который хочет сохранить свой приход, открыты только два пути. Либо это должен быть Англиканский католицизм, чистый и простой, вернее, чистый, но отнюдь не простой. Либо он должен быть дерзко современен и либерален и читать успокоительные проповеди, доказывая, что ада нет и хорошие религии все едины. Пастор не сделал ни того, ни другого. С одной стороны, он глубоко презирал англо-католическое движение. Оно прошло мимо его сознания, не оставив никакого следа; «Римская лихорадка» – так он его называл. С другой стороны, он был слишком «Высоким» для старых членов его конгрегации. Время от времени он до смерти пугал их, употребляя фатальное слово «католик» не только в священных местах Писания, но и с кафедры. Естественно, конгрегация уменьшалась год от года, и первыми уходили «лучшие люди». Лорд Покторн из Покторн-корта, владевший пятой частью всех владений графства, мистер Левис, удалившийся от дел торговец кожей, сэр Эдвард Хьюсон из Крабтри-холла и владельцы автомобилей, такие милые, почти дворяне, – все покинули Св. Этельстан. Большинство из них утром по воскресеньям уезжало в Миллборо, что в пяти милях. Миллборо, городок с пятитысячным населением, где можно было выбирать из двух церквей: Св. Эдмунда и Св. Видекинда. Церковь Св. Эдмунда была местом модернистским: текст блейковского «Иерусалима» провозглашали там с алтаря, а вино для причастия пили из бокалов для ликёра.[10 - Поэма «Иерусалим» – одно из крупных творческих достижений Уильяма Блейка (1757–1827). Однако здесь речь идёт по всей видимости о стихотворении Блейка «Иерусалим», широко известном также как гимн «Новый Иерусалим» с музыкой сэра Хьюберта Парри (1848–1918).] А церковь Св. Видекинда была местом англокатолическим и находилась в состоянии непрекращающейся партизанской войны с епископом. К тому же мистер Камерон, секретарь Клуба консерваторов Найп-Хилла, был новообращённым римским католиком, а его дети – в гуще Римско-католического литературного движения. Поговаривали даже, что у них есть попугай, которого они учат повторять “Extra ecclesiam nulla salus.”[11 - Extra ecclesiam nulla salus. (лат.) – Вне Церкви нет спасения.] В итоге, ни один из стоящих людей не остался верен Св. Этельстану за исключением мисс Мэйфилл из Дэ-Грандж. Большую часть своих денег мисс Мэйфилл завещала Церкви, – так она говорила. Между тем, как было известно, она никогда не клала больше шести пенсов в мешочек для пожертвований, а жить она, похоже, собиралась вечно.
Первые десять минут завтрака прошли в полной тишине. Дороти пыталась собраться с духом, чтобы заговорить; ясное дело, прежде чем поднимать вопрос о деньгах, нужно было начать хоть какой-то разговор. Но отец её был не из тех людей, с кем легко заговорить о мелочах. Временами на него нападали такие приступы рассеянности, что заставить его тебя слушать было почти невозможно. В другое время он был весь внимание, даже чрезмерно, внимательно выслушивал, что ты говоришь, а потом замечал, довольно устало, что говорить этого не стоило. На вежливые банальности – о погоде и всём прочем – он обычно реагировал саркастически. Тем не менее Дороти решила попробовать начать с погоды.
– Странный сегодня день, правда? – заметила она, хотя, уже произнося это, осознавала бессмысленность такого замечания.
– И что же в нём странного? – поинтересовался Пастор.
– Ну, я имела в виду, что утром было холодно и туманно, а теперь вышло солнце, и всё изменилось; довольно приятно.
– И что же в этом такого странного?