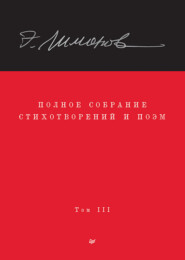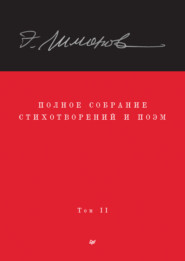По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга мёртвых – 2. Некрологи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда я наконец попал опять в Нью-Йорк осенью 1990 года – издательство «Grow Press» пригласило меня для промоушэн моей книги «Memoires of a Russian punk», – Довлатова уже не было в живых. Он умер в августе 1990-го от сердечной недостаточности.
Что я думаю сегодня о его творчестве? В сущности, думаю то же, что и в 1980-е годы. Что писателю Довлатову не хватает градусов души. Что раствор его прозы не крепкий и не обжигающий. Самая сильная литература – это трагическая литература. Тот, кто не работает в жанре трагедии, обречен на второстепенность, хоть издавай его и переиздавай до дыр. И хоть ты уложи его могилу цветами. Ну а что, это справедливо. Только самое жгучее, самое страшное, самое разительное выживет в веках. Со слабыми огоньками в руке не пересечь великого леса тьмы.
Хотел бы я хоть чуть-чуть походить на Довлатова, и чтоб моя биография хоть чуть-чуть напоминала бы биографию этого сырого мужика с бульбой носа? Решительно не хотел бы – если бы увидел в себе черты «довлатовщины», то есть ординарности, то я растоптал бы такие черты.
«Ляхи»
Старые фотографии XX века имели свойства быстро желтеть, засыхать, как вложенные меж страниц книги растения, становиться ломкими, выцветать, как выцветают сейчас листки, присланные по факсу. Интересно, в век цифровых фотографий станут ли так же быстро выцветать фотографии, отпечатанные на бумаге «кодак»? Неизвестно. Фотографии моей памяти тускнеют, это факт.
В школе с девятого класса у нас учились в классе Лях, Ляшенко и Ляхович. Мало того, что все три фамилии происходили от одного корня «лях», то есть поляк, в просторечии украинского языка (вспомним, Тарас Бульба перед тем, как убить сына Андрия, грозно-сочувственно вопрошает его: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»), то есть, видимо, предки этих наших ребят прибыли когда-то в Харьков из Польши и так и звались «ляхами», так еще Лях и Ляшенко были двоюродные братья!!! Оба занимались спортом: Толик Ляшенко был отличным легкоатлетом, бегуном, а Генка Лях отличался на ниве тяжелой атлетики: толкал штанги, метал диски. В спортивных штанах, майке, довольно крупный, хотя и невысокий: старательный чубчик чуть набок – таким мне сохранили Генку фотографии моей памяти. Толик же Ляшенко полностью соответствовал классификации легкоатлета: долговязый, выше всех в классе. Оба были спокойные, знающие себе цену ребята. Семьи у них были, как тогда говорили, «итээровские», то есть они были из семей инженерно-технических работников, жили они не в квартирах, но в частных домах. Так получилось, что я у них дома никогда не был, но понимал, что их отцы принадлежат к несколько иному имущественному классу, чем моя семья: мы – отец, мать и я – жили в одной комнате в коммуналке.
Они и дружили: Лях, Ляшенко + Ляхович – с такой же элитой нашего класса, к которой я не принадлежал. Из девочек это были безоговорочно Вита Козырева и Лариса Болотова. Эти две девочки тоже проживали в частных домах. У Козыревой я несколько раз был: на стенах у них висели картины маслом и даже какие-то барельефы в виде венков и ваз. Мне это великолепие и наличие двух этажей, многих комнат, казалось несусветной роскошью. К этим пятерым, безусловно, самым богатым детям нашего класса, примыкали Витька Проуторов (я писал об этом парне в «Книге мертвых» – 1), не только потому, что жил с матерью и отчимом тоже в частном доме рядом с домом Виты Козыревой, по и потому, что был он красивый мальчик и музыкант, и Лина Никишина, – мать ее была простым доктором, и жили они не в частном доме, – подруга и Болотовой, и Козыревой. Они все так и ходили втроем в сцепке: девочки. А с ними три «ляха», как мы их называли, и Витька Проуторов. То, что они (кстати, все они были еще и первыми отличниками нашего класса) дружили все по классовому принципу, стало мне ясным лишь недавно, а именно в 2007 году. Случилось это так: в августе 2007 года украинское правительство аннулировало черный список российских граждан, которым запрещен был въезд в Украину (в списке значились такие разные люди, как Э. Лимонов, Ю. Лужков, К. Затулин, В. Жириновский или А. Дугин). Узнав об этом, 15 сентября я взял охрану, сел в автомобиль «Волга» и отправился в Харьков. 16 сентября моей матери должно было исполниться 86 лет. Мать свою, Раису Федоровну, я нашел сморщенной подозрительной старушкой с железными зубами. Тогда она еще ходила и имела достаточно сил сидеть со мной и гостями за праздничным столом. Проведя день с матерью, я отправился на следующий день посетить места моего детства и ранней юности. Меня должен был сопровождать в моем «хадже» местный тележурналист Филипп Дикань. Мы с ним встретились в старом районе Харькова, на Салтовке, когда-то Салтовка была зеленой рабочей окраиной, но с тех пор ее поглотил город. Она давно уже не рабочая и не окраина. Мы встретились у здания бывшего клуба «Стахановец», к нашей машине подъехали телевизионные ребята Диканя. Мы все вышли из машин и стали обсуждать маршрут «хаджа». Пока обсуждали, подъехали еще две телекоманды, мы там все затоптались на некоторое время. Осень в Харькове – самое лучшее время года. Листья обычно держатся долго, очень красиво на улицах. Деревья в Харькове, кстати, не покинули улиц и не сведены только к бульварам. Они растут прямо из квадратов земли в асфальте, потому там ходишь по улицам, как в роще гуляешь.
Уже целым кортежем мы отправились в среднюю школу № 8, где я учился. Благо, она всего в нескольких сотнях метров от «Стахановца». Стоя у школы, я давал интервью, затем Дикань предложил мне снять меня внутри школы, например в классе, где я учился. Я выразил сомнение, что нам разрешат сделать телерепортаж «Лимонов в родной школе», но Дикань удивился моему пессимизму и счел нужным напомнить мне, что здесь не Россия.
– Это в России, Эдуард Вениаминович, вас ненавидит власть, здесь мы вас любим, вы наш великий земляк.
Через минут пять Дикань действительно вышел из дверей школы (куда он удалился тотчас после комплимента мне) и возвестил, что на все наши пожелания и просьбы ответ может дать только директриса, она сейчас во дворе школы.
– Кстати, сказали мне, она – дочь вашего соученика.
В это время как раз из двора пошли разного возраста и разных наций школьники и школьницы. Последними шли китайцы.
– Китайцы! – сказал я.
– Это, Эдуард Вениаминович, вьетнамцы, – заметил Дикань. – У нас тут много вьетнамцев.
Вьетнамцы выглядели чистенькими, у всех были белые манжеты и белые воротнички на темных костюмах.
– А вот и директриса, видимо! – сказал Дикань.
К нам направлялась худая высокая молодая женщина. Она улыбалась нам.
– Мне уже сообщили, – она повертела в руках мобильный телефон, потому стало ясно, что ей сообщили о моем появлении по мобильному.
– Я дочь вашего соученика Александра Ляховича!
– Ой, – сказал я, – надо же! Как он?
– Да нормально, хорошо. Новую квартиру обживает. Полы циклюет.
Мы все пошли в школу, так как дочь соученика сказала, что разрешает снимать везде, где захотим. Школа оказалась намного более просторной, чем школа моих воспоминаний. Каждый этаж обладал поистине огромным залом-коридором, полы были чуть ли не навощенные. Стены были свежеокрашены, классы вылизаны. Дети выглядели смирными, но не подавленными. Мы зашли в один из классов, когда-то он служил кабинетом физики, и наш классный руководитель, физик, помню, заводил туда наших учеников и избивал их там, ребята возвращались, выплевывая кровь. Я не сказал об этом школьникам, слаженно вставшим при появлении директрисы Ляхович и моем.
– Вот, ребята, Эдуард Вениаминович, он окончил нашу школу, – сказала приветливо директриса.
– Да, – подтвердил я, – в 1960 году!
Выдержанные детки ничего не сказали. Однако личики их выразили и испуг, и недоверие. К той бездне, почти полустолетней глубины, отделяющей их от того майского утра, когда вот этот, нагрянувший к ним черт знает кто, стоял на своем последнем звонке.
– Учитесь и еще раз учитесь, – покровительственно произнес я. И удалился, чтобы их не смущать. Про себя я подумал, что эта вылизанная школа, как она ни натужится, и в следующую сотню лет не примет в свои стены такого, как я. Это была чистая случайность.
Мы, когда закончили работу, стали откланиваться. Я дал дочери моего соученика номера моего мобильного и домашнего телефона моей матери.
– Кстати, – сказала она, – у отца завтра день рождения, вы, конечно, не помните, может быть, вы придете?
Я сказал, что да, разумеется, вовсе не имея в виду, что приду. Затем я отправился в дальнейшее путешествие, «хадж» привел меня в тот день и к пруду, где я мальчиком купался и загорал, и к двери Дома культуры, где я мерз, ожидая, когда нас запустят на танцы (ноги были обернуты газетами), и к дому 22 на унылой Поперечной улице, где мы жили в те годы… Я забыл о Ляховиче и всех ляхах, и если бы сам Ляхович не позвонил мне на следующее утро, я бы так и не узнал, что Генка Лях умер.
Он позвонил довольно рано. Мать-старушка кипятила что-то на кухне. Я взял трубку. Охранники мои курили на балконе.
– Здорово, Эд, – сказал он и добавил в рифму ругательство, – х… тебе на обед! Это Сашка!
– Кто? – спросил я. Последние лет двадцать пять никто на земле, кроме родной мамы, не осмеливался называть меня на «ты», не говоря уже о ругательствах, следующих вплотную за обращением.
– Я тот, кого ты лживо назвал в своей книжке евреем, в то время как я действительный член дворянского собрания и потомственный шляхтич Ляхович! – закончил он. – У меня сегодня день рождения, Эдик. Приезжай к вечеру. Ничего особенного, выпьем в кругу семьи.
Он продиктовал адрес и объяснил, как доехать.
Если бы он не обругал меня матом, я бы не поехал к нему. Но я захотел посмотреть на наглеца. Довозил нас полковник Алёхин, мой давний приятель, за рулем была его большая юная женщина, настоящая великанша, по профессии, насколько я понял уже на следующий день, целительница.
Вечером Харьков, и район Салтовки особенно, стали непроницаемо загадочными ввиду почти полного отсутствия фонарей в этой части города. Я и два моих московских охранника на заднем сиденье «ситроена» даже притихли. Мы привыкли быть волевыми сильными ребятами, всегда управляющими ситуацией, а тут оказались несомы спорящей парой, несомы их настроением, вдруг обнаружившейся усталостью великанши. Мы сумели купить пару коробок конфет, а вот купить спиртное около полуночи на земле моего детства и юности оказалось делом невозможным. В конце концов мы так запутались в темноте и в разбитых шоссе, так завязались с ними в тугой узел, что пришлось просить помощи у друга детства.
Грубо, с матерком, Ляхович объяснял то полковнику, то великанше за рулем по мобильнику, где он будет нас ждать, и мы, наконец, остановились. Охранники вышли. Нашли лысого носатого старого мужика под фонарем. Я вышел из машины.
– Эдик, что ж ты меня в евреи записал… (мат) я член дворянского собрания, заместитель председателя… (мат)
– Хватит ругаться, Сашка, – сказал я. – Здравствуй!
Мы обнялись. Распрощались с полковником и великаншей. Пошли к нему. Квартира хорошо пахла свежим паркетом. Он горделиво показал мне несколько комнат. Предметы прилажены, налажены, сведены вместе. Дверные ручки сияют. Из таких наконец налаженных, уютных квартир, из последних пристанищ стариков и выносят на кладбище. Устроился удобно, и уже вперед ногами – пожалте. Я пробормотал несколько приятных для него слов, но совсем не тех. Мои мысли о его доме, я их приблизительно изложил, были страшнее его грубого мата, я думаю. Потому я ему их не поведал: не дал ему испить яду своего холодного пессимизма. В просторной свежей кухне сидели, ну, не ручаюсь за точность, но там определенно были: его круглолицая жена, его дочь-директриса, сын директрисы лишь показался. Подросток, его, как всех подростков, отрекомендовали, пробормотав: «Ему с нами неинтересно, у этой молодежи на уме компьютер, и они живут в интернете». Подростка быстро спровадили. Он посмотрел на меня с тоскою, уходя, бедняга. Там были еще две тетки. Сидели они давно, видимо…
Мне и охранникам (они спросили: «Можно, Эдуард?») налили водки и дали всяких салатов и огурчиков либо помидоров на тарелки. Все это сопровождалось замечаниями старого друга о том, что «жена у меня хохлушка» (то есть у него), и воспоминаниями: «А помнишь, как я тебе бутерброды с салом носил, когда ты в нашем подвале скрывался» (к присутствующим: «Он из дома убежал»). Я помалкивал и рассматривал его. Это был определенно Сашка, но через сорок семь лет после нашего последнего звонка. Это был высокого роста лысый мужик с большим рубильником носа, развязный и простой. В советские времена он мог быть и директором продбазы, и руководителем конструкторского бюро. Ему, видимо, легко давались социальные связи. Он был в жизни как рыба в воде. Когда он открыл форточку и закурил, то стал совсем типичным.
Странным образом они меня ни о чем не спрашивали, может быть, знали о моей жизни из газет. Пришел старший их сын, брат директрисы. Его отправили за алкоголем…
– Как наши? – спросил я, выждав момент, когда он закончит очередную волну каламбуров и словесных конструкций, подкрепленных гримасами и ругательствами.
– Наши? Да никого уж в живых не осталось. Ты, я, Толик Ляшенко… вот, пожалуй, и всё.
– А Тищенко?
– Сашка умер. Не так давно. А ты не знаешь?
– У меня одна мать здесь корреспондентом. Но они с отцом, может, ты не знаешь, еще в 1968 году уехали с Салтовки.
– Генка Лях умер, – сказал он.
– Когда?
– Да вот недавно.
Что я думаю сегодня о его творчестве? В сущности, думаю то же, что и в 1980-е годы. Что писателю Довлатову не хватает градусов души. Что раствор его прозы не крепкий и не обжигающий. Самая сильная литература – это трагическая литература. Тот, кто не работает в жанре трагедии, обречен на второстепенность, хоть издавай его и переиздавай до дыр. И хоть ты уложи его могилу цветами. Ну а что, это справедливо. Только самое жгучее, самое страшное, самое разительное выживет в веках. Со слабыми огоньками в руке не пересечь великого леса тьмы.
Хотел бы я хоть чуть-чуть походить на Довлатова, и чтоб моя биография хоть чуть-чуть напоминала бы биографию этого сырого мужика с бульбой носа? Решительно не хотел бы – если бы увидел в себе черты «довлатовщины», то есть ординарности, то я растоптал бы такие черты.
«Ляхи»
Старые фотографии XX века имели свойства быстро желтеть, засыхать, как вложенные меж страниц книги растения, становиться ломкими, выцветать, как выцветают сейчас листки, присланные по факсу. Интересно, в век цифровых фотографий станут ли так же быстро выцветать фотографии, отпечатанные на бумаге «кодак»? Неизвестно. Фотографии моей памяти тускнеют, это факт.
В школе с девятого класса у нас учились в классе Лях, Ляшенко и Ляхович. Мало того, что все три фамилии происходили от одного корня «лях», то есть поляк, в просторечии украинского языка (вспомним, Тарас Бульба перед тем, как убить сына Андрия, грозно-сочувственно вопрошает его: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»), то есть, видимо, предки этих наших ребят прибыли когда-то в Харьков из Польши и так и звались «ляхами», так еще Лях и Ляшенко были двоюродные братья!!! Оба занимались спортом: Толик Ляшенко был отличным легкоатлетом, бегуном, а Генка Лях отличался на ниве тяжелой атлетики: толкал штанги, метал диски. В спортивных штанах, майке, довольно крупный, хотя и невысокий: старательный чубчик чуть набок – таким мне сохранили Генку фотографии моей памяти. Толик же Ляшенко полностью соответствовал классификации легкоатлета: долговязый, выше всех в классе. Оба были спокойные, знающие себе цену ребята. Семьи у них были, как тогда говорили, «итээровские», то есть они были из семей инженерно-технических работников, жили они не в квартирах, но в частных домах. Так получилось, что я у них дома никогда не был, но понимал, что их отцы принадлежат к несколько иному имущественному классу, чем моя семья: мы – отец, мать и я – жили в одной комнате в коммуналке.
Они и дружили: Лях, Ляшенко + Ляхович – с такой же элитой нашего класса, к которой я не принадлежал. Из девочек это были безоговорочно Вита Козырева и Лариса Болотова. Эти две девочки тоже проживали в частных домах. У Козыревой я несколько раз был: на стенах у них висели картины маслом и даже какие-то барельефы в виде венков и ваз. Мне это великолепие и наличие двух этажей, многих комнат, казалось несусветной роскошью. К этим пятерым, безусловно, самым богатым детям нашего класса, примыкали Витька Проуторов (я писал об этом парне в «Книге мертвых» – 1), не только потому, что жил с матерью и отчимом тоже в частном доме рядом с домом Виты Козыревой, по и потому, что был он красивый мальчик и музыкант, и Лина Никишина, – мать ее была простым доктором, и жили они не в частном доме, – подруга и Болотовой, и Козыревой. Они все так и ходили втроем в сцепке: девочки. А с ними три «ляха», как мы их называли, и Витька Проуторов. То, что они (кстати, все они были еще и первыми отличниками нашего класса) дружили все по классовому принципу, стало мне ясным лишь недавно, а именно в 2007 году. Случилось это так: в августе 2007 года украинское правительство аннулировало черный список российских граждан, которым запрещен был въезд в Украину (в списке значились такие разные люди, как Э. Лимонов, Ю. Лужков, К. Затулин, В. Жириновский или А. Дугин). Узнав об этом, 15 сентября я взял охрану, сел в автомобиль «Волга» и отправился в Харьков. 16 сентября моей матери должно было исполниться 86 лет. Мать свою, Раису Федоровну, я нашел сморщенной подозрительной старушкой с железными зубами. Тогда она еще ходила и имела достаточно сил сидеть со мной и гостями за праздничным столом. Проведя день с матерью, я отправился на следующий день посетить места моего детства и ранней юности. Меня должен был сопровождать в моем «хадже» местный тележурналист Филипп Дикань. Мы с ним встретились в старом районе Харькова, на Салтовке, когда-то Салтовка была зеленой рабочей окраиной, но с тех пор ее поглотил город. Она давно уже не рабочая и не окраина. Мы встретились у здания бывшего клуба «Стахановец», к нашей машине подъехали телевизионные ребята Диканя. Мы все вышли из машин и стали обсуждать маршрут «хаджа». Пока обсуждали, подъехали еще две телекоманды, мы там все затоптались на некоторое время. Осень в Харькове – самое лучшее время года. Листья обычно держатся долго, очень красиво на улицах. Деревья в Харькове, кстати, не покинули улиц и не сведены только к бульварам. Они растут прямо из квадратов земли в асфальте, потому там ходишь по улицам, как в роще гуляешь.
Уже целым кортежем мы отправились в среднюю школу № 8, где я учился. Благо, она всего в нескольких сотнях метров от «Стахановца». Стоя у школы, я давал интервью, затем Дикань предложил мне снять меня внутри школы, например в классе, где я учился. Я выразил сомнение, что нам разрешат сделать телерепортаж «Лимонов в родной школе», но Дикань удивился моему пессимизму и счел нужным напомнить мне, что здесь не Россия.
– Это в России, Эдуард Вениаминович, вас ненавидит власть, здесь мы вас любим, вы наш великий земляк.
Через минут пять Дикань действительно вышел из дверей школы (куда он удалился тотчас после комплимента мне) и возвестил, что на все наши пожелания и просьбы ответ может дать только директриса, она сейчас во дворе школы.
– Кстати, сказали мне, она – дочь вашего соученика.
В это время как раз из двора пошли разного возраста и разных наций школьники и школьницы. Последними шли китайцы.
– Китайцы! – сказал я.
– Это, Эдуард Вениаминович, вьетнамцы, – заметил Дикань. – У нас тут много вьетнамцев.
Вьетнамцы выглядели чистенькими, у всех были белые манжеты и белые воротнички на темных костюмах.
– А вот и директриса, видимо! – сказал Дикань.
К нам направлялась худая высокая молодая женщина. Она улыбалась нам.
– Мне уже сообщили, – она повертела в руках мобильный телефон, потому стало ясно, что ей сообщили о моем появлении по мобильному.
– Я дочь вашего соученика Александра Ляховича!
– Ой, – сказал я, – надо же! Как он?
– Да нормально, хорошо. Новую квартиру обживает. Полы циклюет.
Мы все пошли в школу, так как дочь соученика сказала, что разрешает снимать везде, где захотим. Школа оказалась намного более просторной, чем школа моих воспоминаний. Каждый этаж обладал поистине огромным залом-коридором, полы были чуть ли не навощенные. Стены были свежеокрашены, классы вылизаны. Дети выглядели смирными, но не подавленными. Мы зашли в один из классов, когда-то он служил кабинетом физики, и наш классный руководитель, физик, помню, заводил туда наших учеников и избивал их там, ребята возвращались, выплевывая кровь. Я не сказал об этом школьникам, слаженно вставшим при появлении директрисы Ляхович и моем.
– Вот, ребята, Эдуард Вениаминович, он окончил нашу школу, – сказала приветливо директриса.
– Да, – подтвердил я, – в 1960 году!
Выдержанные детки ничего не сказали. Однако личики их выразили и испуг, и недоверие. К той бездне, почти полустолетней глубины, отделяющей их от того майского утра, когда вот этот, нагрянувший к ним черт знает кто, стоял на своем последнем звонке.
– Учитесь и еще раз учитесь, – покровительственно произнес я. И удалился, чтобы их не смущать. Про себя я подумал, что эта вылизанная школа, как она ни натужится, и в следующую сотню лет не примет в свои стены такого, как я. Это была чистая случайность.
Мы, когда закончили работу, стали откланиваться. Я дал дочери моего соученика номера моего мобильного и домашнего телефона моей матери.
– Кстати, – сказала она, – у отца завтра день рождения, вы, конечно, не помните, может быть, вы придете?
Я сказал, что да, разумеется, вовсе не имея в виду, что приду. Затем я отправился в дальнейшее путешествие, «хадж» привел меня в тот день и к пруду, где я мальчиком купался и загорал, и к двери Дома культуры, где я мерз, ожидая, когда нас запустят на танцы (ноги были обернуты газетами), и к дому 22 на унылой Поперечной улице, где мы жили в те годы… Я забыл о Ляховиче и всех ляхах, и если бы сам Ляхович не позвонил мне на следующее утро, я бы так и не узнал, что Генка Лях умер.
Он позвонил довольно рано. Мать-старушка кипятила что-то на кухне. Я взял трубку. Охранники мои курили на балконе.
– Здорово, Эд, – сказал он и добавил в рифму ругательство, – х… тебе на обед! Это Сашка!
– Кто? – спросил я. Последние лет двадцать пять никто на земле, кроме родной мамы, не осмеливался называть меня на «ты», не говоря уже о ругательствах, следующих вплотную за обращением.
– Я тот, кого ты лживо назвал в своей книжке евреем, в то время как я действительный член дворянского собрания и потомственный шляхтич Ляхович! – закончил он. – У меня сегодня день рождения, Эдик. Приезжай к вечеру. Ничего особенного, выпьем в кругу семьи.
Он продиктовал адрес и объяснил, как доехать.
Если бы он не обругал меня матом, я бы не поехал к нему. Но я захотел посмотреть на наглеца. Довозил нас полковник Алёхин, мой давний приятель, за рулем была его большая юная женщина, настоящая великанша, по профессии, насколько я понял уже на следующий день, целительница.
Вечером Харьков, и район Салтовки особенно, стали непроницаемо загадочными ввиду почти полного отсутствия фонарей в этой части города. Я и два моих московских охранника на заднем сиденье «ситроена» даже притихли. Мы привыкли быть волевыми сильными ребятами, всегда управляющими ситуацией, а тут оказались несомы спорящей парой, несомы их настроением, вдруг обнаружившейся усталостью великанши. Мы сумели купить пару коробок конфет, а вот купить спиртное около полуночи на земле моего детства и юности оказалось делом невозможным. В конце концов мы так запутались в темноте и в разбитых шоссе, так завязались с ними в тугой узел, что пришлось просить помощи у друга детства.
Грубо, с матерком, Ляхович объяснял то полковнику, то великанше за рулем по мобильнику, где он будет нас ждать, и мы, наконец, остановились. Охранники вышли. Нашли лысого носатого старого мужика под фонарем. Я вышел из машины.
– Эдик, что ж ты меня в евреи записал… (мат) я член дворянского собрания, заместитель председателя… (мат)
– Хватит ругаться, Сашка, – сказал я. – Здравствуй!
Мы обнялись. Распрощались с полковником и великаншей. Пошли к нему. Квартира хорошо пахла свежим паркетом. Он горделиво показал мне несколько комнат. Предметы прилажены, налажены, сведены вместе. Дверные ручки сияют. Из таких наконец налаженных, уютных квартир, из последних пристанищ стариков и выносят на кладбище. Устроился удобно, и уже вперед ногами – пожалте. Я пробормотал несколько приятных для него слов, но совсем не тех. Мои мысли о его доме, я их приблизительно изложил, были страшнее его грубого мата, я думаю. Потому я ему их не поведал: не дал ему испить яду своего холодного пессимизма. В просторной свежей кухне сидели, ну, не ручаюсь за точность, но там определенно были: его круглолицая жена, его дочь-директриса, сын директрисы лишь показался. Подросток, его, как всех подростков, отрекомендовали, пробормотав: «Ему с нами неинтересно, у этой молодежи на уме компьютер, и они живут в интернете». Подростка быстро спровадили. Он посмотрел на меня с тоскою, уходя, бедняга. Там были еще две тетки. Сидели они давно, видимо…
Мне и охранникам (они спросили: «Можно, Эдуард?») налили водки и дали всяких салатов и огурчиков либо помидоров на тарелки. Все это сопровождалось замечаниями старого друга о том, что «жена у меня хохлушка» (то есть у него), и воспоминаниями: «А помнишь, как я тебе бутерброды с салом носил, когда ты в нашем подвале скрывался» (к присутствующим: «Он из дома убежал»). Я помалкивал и рассматривал его. Это был определенно Сашка, но через сорок семь лет после нашего последнего звонка. Это был высокого роста лысый мужик с большим рубильником носа, развязный и простой. В советские времена он мог быть и директором продбазы, и руководителем конструкторского бюро. Ему, видимо, легко давались социальные связи. Он был в жизни как рыба в воде. Когда он открыл форточку и закурил, то стал совсем типичным.
Странным образом они меня ни о чем не спрашивали, может быть, знали о моей жизни из газет. Пришел старший их сын, брат директрисы. Его отправили за алкоголем…
– Как наши? – спросил я, выждав момент, когда он закончит очередную волну каламбуров и словесных конструкций, подкрепленных гримасами и ругательствами.
– Наши? Да никого уж в живых не осталось. Ты, я, Толик Ляшенко… вот, пожалуй, и всё.
– А Тищенко?
– Сашка умер. Не так давно. А ты не знаешь?
– У меня одна мать здесь корреспондентом. Но они с отцом, может, ты не знаешь, еще в 1968 году уехали с Салтовки.
– Генка Лях умер, – сказал он.
– Когда?
– Да вот недавно.