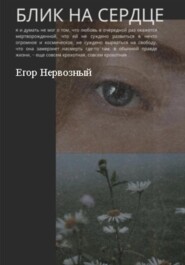По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Надежда и отчаяние
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Карта за картой, бита за битой, я все более и более начал верить в то, что смогу разбогатеть. Вместе с тем я припомнил, что, выходя из дома, поставил на какой-то матч пятьсот рублей. В мою апатию вклинилось новое чувство, которые появлялось только во время игр и способно было заглушить все остальные. Сердце слегка оживилось, ладони похолодели. Мужик взял; мои губы невольно растянулись в улыбке. Снова взял. Шестерка на погон. Меня накрыло словно горячкой, и я повысил свой банк, добавив к двумстам рублям еще триста. Мужик не растерялся, сказал: «Вот это по-нашему!», и подбросил денег. Начал сдавать карты на покер. У продавца удачно оказались фишки, каждую из которых мы приравняли к пятидесяти рублям. У каждого было по десять таких фишек. На «флопе» оказались: король и пятерка «буби», а также валет «черви». Я посмотрел на свои две карты и меня чуть не бросило в пот. Шестерка «буби» и семерка «крести». Я постарался как мог скрыть свое волнение и радость. Вроде бы получилось. Я двинул две фишки, то есть сто рублей. На «терн» выпал туз «буби». Я чуть не подскочил на стуле. Двинул еще шесть фишек. Мой соперник поддержал. «Неужто у него тоже хорошие карты? Или он блефует?» – подумал я. И наконец на «ривер» выпала дама «буби». Я двинул все оставшиеся фишки. Мой соперник поддержал.
– Вскрываемся? – спросил я.
– А как же, – проговорил он с невыразимым удовольствием, от которого я вновь начал волноваться.
– «Стрит», – сказал он, открывая свою десятку и даму. Действительно, у него был стрит от десяти до туза.
– «Флеш», – сказал я, переворачивая свои карты. Мужик чуть не упал в обморок, когда я забрал тысячу.
Снова выигрыш! Мы начали играть дальше. Я сбился со счета, но в общей сложности выиграл порядка пяти тысяч. «Надо уходить», – думал я, но показывал рукой, чтобы мужик раздавал карты. Мне вышел «фулл-хаус». Я поставил сразу четыре тысячи. Мой противник не растерялся и поддержал. Страх холодом пробежался по моему телу. «Каре», – зловеще проговорил он. Меня точно обухом по голове ударили. В итоге я остался ровно с тем, с чем сюда пришел. Легко пришло, легко ушло. «Черт, а ведь я мог на эти деньги заказать еще успокоительного», – с досадой подумал я. Затем я выиграл еще совсем чуть-чуть и сказал, что нужно передохнуть. С горя купил себе стакан черного чая, вышел на улицу и присел на убитую скамейку, стоявшую рядом со входом в рюмочную. Достал сигареты. Я глубоко затягивался, медленно, неспешно выпускал горький дым изо рта и затем запивал его обжигающим чаем, который по своей крепости уже напоминал «чифир». Я смотрел на прохожих, на выходящих пьяниц, но мои глаза точно не видели их, смотря куда-то сквозь них, даже сквозь дома, где в мутной пелене снега ездили машины.
Мне так надоело куда-то спешить, вечно вертеться, чтобы чего-то добиться, пытаясь что-то доказать в первую очередь самому себе, терпеть постоянные неудачи и затем меланхолично думать о смысле жизни. Я постоянно двигаюсь, двигаюсь, пытаюсь создать что-то великое, что-то по крайней мере новое и необычное, пытаюсь творить, но в итоге все равно не получается ровным счетом ничего. Я всегда возвращаюсь в начало, но при этом какого-то черта продолжаю день ото дня тешить себя мыслью, что завтра, завтра-то точно я найду смысл жизни! Я курю дешевые сигареты, пытаясь найти ответ на вопрос о том, какого черта я забыл здесь, на этой земле. Но так ничего и не нашел.
Из раздумий меня вывел гудящий низкий голос прямо над ухом, от которого, если его долго слушать, наверняка может сделаться плохо. Я безразлично повернул голову и узнал в этом человеке Шалопаева.
– О-о-о, это все же вы. А я смотрю: вы или не вы.
Я продолжал смотреть на него. Просто так подобные люди не подходят, а значит ему наверняка что-то нужно.
– Есть у тебя рублей сто пятьдесят? Я отыграюсь и отдам в сто раз больше! Запомни мое слово: в сто раз!
Я молчал и сухо смотрел на Шалопаева, в то время как он сам с каждой секундой менялся на глазах: сначала он спокойно просил, потом умолял, потом начал ужасно громко басить, потом чуть ли не с кулаками на меня кинулся, а потом вновь начал просить спокойно. Да, наверняка он измучил свою жену до? смерти. Я молча достал из кармана две мятые надорванные купюры и сунул в его скрюченные пальцы. Я был уверен, что он проиграет, но дал денег лишь бы он отстал. Я вернулся, купил дешевый пирожок с картошкой, весь пережаренный в масле, и сел обратно на скамейку. Через некоторое время Шалопаева с разодранной курткой и вывернутыми карманами вытолкнули на улицу. Некоторое время он валялся на земле, затем поднялся, и, шатаясь из стороны в сторону, поковылял за угол; я точно знал, что там располагались мусорные баки. Мне вдруг стало интересно, что же он такое задумал. Аккуратно, стараясь не шуметь, я двинулся следом.
Шалопаев добрался до ближайшего мусорного бака, где было свалено много всякого хлама; начал в нем копаться. Я не мог долго на это смотреть. Мне и без того было ужасно дурно, а от этого вида становилось еще хуже.
«Может и меня ждет такая же участь?» – подумал я, но мотнув головой, быстро отогнал эту мысль. Не может такого быть. Я же не пью.
Я окликнул Шалопаева, дал еще сто рублей и ушел.
***
Дождавшись пока бред и споры в мозгу утихнут, я оделся и вновь пошел на улицу. Опустился белый дым тумана; небо посерело, цветом напоминая грязную мутную воду; облака плакали мелким холодным дождем. В такую погоду очень хочется застрелиться. А впрочем, мне при любой погоде этого хочется, как бы комично для кого-нибудь это ни звучало.
Через некоторое время я добрался до полузаброшенного хранилища высокой травы и мокрых деревянных крестов – кладбища. Тихий островок в океане городского шума. Я прошел по брусчатой тропинке, виляя меж могил, и добрался до креста своего друга. Я стоял рядом, смотрел на него и молчал. Мне казалось, что его силуэт вот-вот появится в пелене тумана, что он выйдет мне навстречу, но этого, конечно же, не произошло. В голове ничего не было – то ли мозг снова отключился, готовясь к великим, сводящим меня с ума раздумьям, то ли он просто не знал, о чем нужно думать в такой ситуации – не знаю – но мысли мои затерялись где-то во мгле.
– Я больше не хочу, Дима, – тихо заговорил я дрожащим голосом. – Я тоже больше не хочу жить. Что мне здесь делать? Почему ты ушел один?
Ответа не последовало.
– Я болен, друг мой, я очень болен. Просыпаюсь утром, иду заваривать чай, сажусь за стол и о чем-то думаю. И во время этой думы понимаю, что мне не нужен ни этот чай, ни эта комната, ни этот город. Ни-че-го. Мне все опостылело, я ничего больше не хочу.
Туман все клубился вокруг; из его покрывала кое-где проглядывали кресты, зовущие меня, нашептывающие что-то сотнями голосов, слившихся в одну единую какофонию.
Очнулся я сидящим на мокрой деревянной скамейке, поставленной лично мною напротив могилы Димы. Я потряс головой и оглянулся – ничего не изменилось. Понятия не имею, сколько я так просидел; может быть, день, может быть, час, а может всего минуту. Устремив взгляд куда-то в сторону, я разглядел в сером воздухе движущуюся тень. Первое, что пришло в голову: «Митя, это ты?» Но нет, это снова был не он. Тенью оказалась та девушка, которую я видел в книжном. Она остановилась подле креста, стоявшего справа от Димы, и положила рядом шесть белых гвоздик. Я не особо обращал внимания, но меня удивило, что она смогла найти гвоздики в конце февраля. Она отошла от могилы и подошла ко мне, спросив можно ли присесть. Я не возражал. Она села на край скамьи и пару секунд тайком рассматривала меня с сочувственным выражением лица.
– Ты пришел к родственнику? – тихо спросила она.
– К другу, – ответил я, указывая рукой на могилу товарища.
– Очень плохо, когда друзья умирают.
Я вздохнул, но скорее раздраженно, и медленно-медленно покивал головой. Если честно, я хотел бы чтобы она убралась ко всем чертям, чтобы я остался один. Я ни с кем не хотел говорить. Но она упорно продолжала сидеть и чего-то ждать.
– А ты к кому? – спросил я через силу ради приличия.
– К отцу. Он умер уже давно.
– Плохо, наверное, когда родители не доживают даже до двадцати годов их детей, – сказал я как-то машинально, не имея при этом желания продолжить разговор.
– Смотря какими эти родители были.
Я скосил на нее глаза; ее ответ показался мне довольно любопытным. Впрочем, через пару секунд я вновь увел взгляд вперед, на цветы.
– Но нет, это не относится к моему отцу. Он был очень хорошим человеком. Лучшим из тех, кого я знала в детстве.
Я ничего не ответил.
– Почему ты так усиленно смотришь на мои цветы?
Цветы казались мне какими-то неестественно яркими, блестящими, и оттого не вписывающимися в окружающую их серость.
– Разве они уже растут? – со вздохом выдавил я из себя.
– Это же искусственные, – чуть улыбнулась она.
– Ах, вот оно что, – сказал я сухо.
– Хочешь, я дам тебе три штучки? Им очень приятно, когда кто-то приносит цветы. Это своего рода знак, что их еще помнят.
– А твой отец не будет против?
– Думаю, он меня поймет. Он всегда помогал людям.
– Ну тогда ладно.
Она подошла к могиле отца, взяла оттуда три белых гвоздики и отдала мне. Действительно искусственные. Я положил их подле Мити. Мы вновь сели на неприятную от сырости скамью. Я немного рассказал ей о своем друге, она мне посочувствовала. Уж не знаю, то ли она была очень хорошей актрисой, то ли она действительно делала это искренне. Сочувствие все-таки есть величайшая вещь на земле.
Через несколько минут мы уже шли обратно к остановке по практически безлюдным улицам. Я никогда не любил разговаривать с незнакомыми людьми, да и заводить новые знакомства мне всегда было тяжело, но сейчас все произошло как-то само собой. Мы попрощались и разошлись недалеко от ее дома (она сказала, что не любит, когда ее провожают прямо до подъезда), но напоследок запомнил ее слова: «Не вини себя в смерти друга. Ты ни в чем не виноват». Как она поняла меня?
Магазинчики и дома, казавшиеся из-за тумана парящими в воздухе, один за одним выплывали из него. Где-то в окнах горел тусклый свет, точно в каютах корабля, дрейфующего среди океанов. Я зашел в магазин, купил сигарет и закурил одну. Остановившись около черного фонаря, я прижался к нему спиной и запрокинул голову, уставившись в небо. Дым от сигареты поднимался одним клубом, растворяясь в тумане. Настроение само собой как-то улучшилось, из полностью подавленного превратившись просто в тоскливое. В никакое. Но оно отнюдь не было плохим.
После встречи с этой девушкой в душе поднялась какая-то неожиданная надежда. Такая, какой я не испытывал уже давно, такая, мечты о которой я убивал и душил.
Моя рука полезла в карман пальто и дотронулась до рукоятки пистолета. Я чуть улыбнулся и тихо произнес: «Прости, дружок, видимо, не сегодня».
Глава четвертая
Этой ночью мне снился сон. Сон об одном из самых памятных дней моей жизни с матерью.