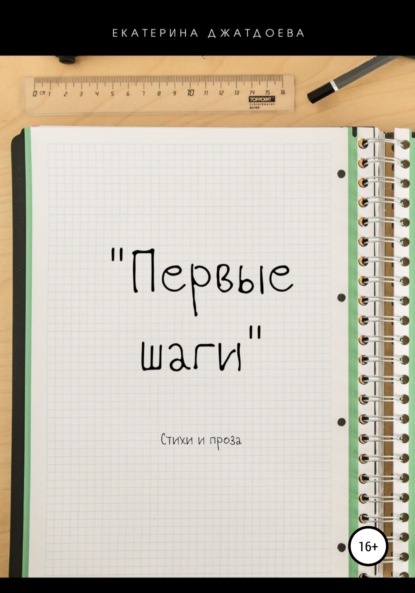По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Первые шаги. Стихи и проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Открыв глаза утром, я взглядом наткнулась на газетную кучу, прикидывая, что же с ней такого можно сделать: столик, подставку для ног или просто сдать в макулатуру. Признаться, эта уродливая куча стала мне дорога как единственное напоминание о Василии, его ногах, запрокидываемых на нее с завидной ловкостью и статью хитреца, подъедавшего торт по ночам.
Он мог бы стать прекрасным актером, сатириком, прозаиком или даже немного поэтом, но он был собой и эту память – о том, как быть собой – я хотела сохранить всеми усилиями, надеясь, что к старости буду также жива и также самобытна, как и он.
А пока стопку газет я решила перебрать, придав ей более опрятный вид и, разрезав бечевку, начала раскладывать газеты, сложенные в аккурат в хронологическом порядке. Среди них хранились те самые фотографии, письма, грамоты и бумажонки, отсутствию которых я каждый раз удивлялась, делая уборку. Честно говоря, по причине того, что не находила фото и каких-либо напоминаний о его прошлом, я считала его разведчиком и романтично приписывала ему подвиги спасения родины.
Теперь же, разглядывая фото драчливых мальчонок, копающих картошку на полях, ребят с гармошкой и просто ребят, улыбающихся и передающих мне привет из тех времен, где еще все было настоящим, особенно интроверты, я нашла и Ее.
Ее звали Лариса и Василий все эти годы, не в силах позабыть о ней, писал ей любовный письма, стихи, признания, укладывая между датированными газетками, освящающими события целой страны, события их с ней непрожитой жизни.
С виду девочка с точеным силуэтом, хрупкая и похожая на мраморную статуэтку балерины, она всегда улыбалась на фото. Ее вьющиеся светлые волосы, непослушные и придающие ей по-детски хрупкий и подвижный в то же время вид, развевались и заставляли щуриться его глаза от солнца, белокурых локонов и счастливой любви, датированной 16 сентября 1957 годом.
Среди этих фото и многочисленных стихов, поэм, рассказов о любви, никому не адресованных и никем не прочитанных, было крошечное и с виду недорогое обручальное колечко, вложенное в треугольный конвертик с надписью, выполненной прекрасным ровным почерком:
«Милый, родной мой Василий. Суровый лагерь сделал меня грубее и гораздо жестче. Я изменилась, а чувство такое, что изменила тебе. Не жди меня, я не вернусь. Люби поэзию и люби меня такой же нежной и юной, какой ты знал меня. Прошу тебя, не ищи меня, той Ларисы больше нет. Люби меня в каждой женщине, девочке, в каждой матери. Прощай.
***
Отпускаю тебя, словно в море корабль.
Отпускаю тебя, будь же счастлив, мой друг.
Словно желто-зеленый прохладный сентябрь
Отпускает ноябрь серебристый и вдруг,
Вдруг свободой залито все синее небо
И свобода сияет в оживших глазах.
Отпускаю тебя, где бы, милый, ты ни был.
Будь же счастлив как радугой счастлива летом гроза.
19 сентября 1962 года»
Треугольник в кармане
Я смотрела на нее, едва сдерживая слезы жалости и радости одновременно. Женщина пятидесяти с небольшим лет спала на моей кушетке как подкидыш на порожках детского дома. Белокурая, смахивающая на ангела барышня с легким храпом молчаливо рассказывала мне свою историю. Историю, годную разве только для бульварных романов и горячих сплетен подоконных бабушек.
Удивительно, что ее лицо было так свежо и невинно. Возраст будто обошел ее стороной, то ли из уважения, то ли чтобы хоть как-то ее порадовать. Руки же были все испещрены прожилками голубовато-зеленых сосудов и говорили о тяжком и упорном многолетнем труде.
Она появилась у меня с неделю назад с лёгонькой полупустой сумкой и бутылкой вина с коробкой конфет. Ее лицо говорило о замешательстве: пустит, не пустит? Где ночевать?
Конечно, я ее пустила. Не то чтобы из-за вина и конфет, которые были огромной редкостью, скорее из-за того, что Ларка была очень интересной собеседницей, о чем говорили тома нашей с ней переписки, которые я хранила уже около десяти лет. Каждое такое письмо можно было опубликовать в газете как рассказ о жизни, о внутренней воле и свободе внешне ограниченного человека. Она писала не письма, она писала рассказы, в которых были вложены рассуждения, картинки, стихи, просто интересные истории с юмором и наилегчайшей грустью, доступной только творческим и интеллигентным людям.
Эти рассказы и стихи я тихонько отсылала по газетам, собирая по крупицам небольшие гонорары на тот день, когда мы встретимся. Ей я об этом конечно же не сказала, потому как не была уверена, что мы вообще когда-нибудь встретимся. Думала, пошлю по почте, когда напишет, что освобождается. Она, пробывшая в лагере почти двадцать лет, не надеялась найти на свободе хоть какую-нибудь халтуру, о чем поведала мне однажды в письме. Сообразив, что к чему, я разослала ее произведения и накопила в итоге весьма приличную сумму. Эти деньги лежали у меня в конвертике со скромной надписью «Ларкина жизнь» и ждали ее словно подарок бабушки к юбилею любимой внучки.
Писала она очень интересно, просто, со вкусом, глубоко. Газеты ее любили. Как и ее псевдоним Лариса Круглова, который спонтанно родился из наших писем.
Фамилии ее я не знала точно, да и не нужна она мне была. Мне был известен только номер в лагере: заключенная номер 455572. Как-то она написала мне, что есть люди круглые, тонкие, радушные и спокойные, гибкие по своей природе, а есть еще квадратные и треугольные – нервные и то устремленные вверх, подвижные, то, наоборот упорно тянущиеся к стабильности и не готовые к каким-либо изменениям. Не особо задумавшись, я отнесла ее к круглому типу и нарекла Ларисой Кругловой.
Жизнь потрепала ее словно коршун полудохлую мышь, что ничуть не отразилось на ее добродушии и открытости. Как-то она говорила, что секрет состоит в том, чтобы постараться найти общее с кем угодно и стремиться к этой самой общности, общему делу, размышлению, идее. Тогда и склокам будет взяться неоткуда.
Попивая крепкий сладкий чай, я сидела и думала, как лучше рассказать ей об образовавшихся халтурках и неожиданном заработке, попутно вспоминая нашу с ней трогательную историю, похожую на легкий бульварный роман, роняющий напудренных барышень в свинцовые обмороки.
Как-то на работе нас обязали вести переписку с лицами, находящимися в местах не столь отдаленных, для воспитания и социализации оных. Первое письмо давалось мне с особым трудом. Я, уже потная и покрасневшая от усердия, начала рассказывать о себе, о том, каково это – быть на свободе и как здорово больше не совершать проступков перед Родиной и жить правильно, гордо наслаждаясь своей по праву рождения данной свободой. Завершив письмо, я, с чувством выполненного долга, сразу позабыла о нем, переключившись на выполнение еженедельного плана.
Письмо тем временем было отправлено. Как стало позже известно, попало оно к некой Ларисе с условным номером 455572, которая, к слову сказать, была весьма находчива и островата на язык. Ответ, который я получила, заставил меня задуматься и покраснеть от наотмашь написанного общими фразами письма. Меня, выполнявшую план на 120 процентов! Гордость инженерии и машиностроения, забывшую, что пишет письмо живому человеку, с чувствами и планами на обед.
В письме она, полушутя, рассказывала мне о своей внутренней свободе, за которую, собственно, и поплатилась свободой внешней и посоветовала призадуматься о понятии свободы, которой я, безмозглая, живу. На самом деле в ее речах не было ни капельки нравоучений и вообще того, что могло бы меня задеть, скорее, размышления, выдающие с нутром аристократичную и живую натуру. В конце письма меня ждал неожиданный вопрос: «а что вишня, поспела уже? Пахнет, наверное, изумительно».
Я, затронутая таким проникновенным опусом, и вооружившаяся пером и чувством собственного достоинства, начала излагать мысли о свободе, равенстве, обществе. Об общности и идеологии. И, с гордостью за себя и за Родину опустив письмо в почтовый ящик, все же продолжала думать о ней. Кто она? За что попала в лагерь? Какова была и есть ее жизнь? Может она была такой же порядочной гражданкой, как и я, а потом, опустившись донельзя и растеряв себя в жизненных перипетиях, попала «туда, куда не надо», и просила моего к ней внимания, воспитания, руки помощи, словно набережная просит у моря легкого бриза в полуденный час?
Как оказалось позже, в перевоспитании Лариса не нуждалась. Скорее, в живом общении, в книгах и стихах, в новостях и рассказах о свободе, о том, как там, на воле? Чем торгуют, что обсуждают, чем живут? Ей нужна была пища для размышлений и новых писем, рассказов и стихов, которые так необходимы людям свободомыслящим и творческим. И так я стала для нее бульварной кормилицей, в письмах рассказывая обо всем, что происходило в мире. Я даже начала специально покупать газеты и читать новости чтобы потом написать ей об этом красочно и с юморком. Но чаще просто отправляла ей газеты с остроумными пометками на полях.
Так наша переписка стала похожа на живое и теплое общение, в котором обсуждались идеи, случайности из жизни и биографии двух незамужних и ни к чему не обязанных барышень, прошедшие цезуру лагерных критиков-надсмотрщиков, а потому политкорректных как выпуски международных новостей по радио. Так родилась наша дружба. Эта переписка порой заменяла мне живое общение. Я хранила сдобренные тонким чувством юмора и легкими картинками рассказы из жизни в лагере, из жизни вообще и перечитывала их в дни перемежающейся скуки и одиночества или просто так, когда было настроение.
Однажды она прислала мне свое слегка выцветшее фото, точнее его половину. Точеная, изящная блондинка с курчавыми волосами улыбалась мне с берега Невы, глядя в камеру. Точно посередине бумаги шел аккуратный разрыв, оставивший на Ларкиной половине чью-ту мужскую руку, обнимавшую ее за хрупкое приподнятое плечо. Ее лицо будто шло вразрез с историей человечества, никак не отягощенное событиями все время революционирующей и перестраивающейся России.
Я, с инженерным образованием, была похожа как две капли воды на свои чертежи – правильная, угловатая, ровная, живущая по шаблону и верящая в идеологию, исповедующая религию общественного правопорядка и всеобщего равенства. Ларка была похожа на живописные картины, свежая и будто созданная мазками какого-то художника. Ее религией была жизнь как она есть. Что всегда меня поражало, так это ее внутренняя свобода, которой буквально веяло с каждой страницы нашей рукописной дружбы. Ее мысли, изложенные ровным аккуратным почерком на желтоватых страницах, пахнущих сыростью и машинным маслом, были живы и текучи как Нева, на фоне которой я навсегда запомнила ее улыбку. Мне, такой правильной и несвободной, удавалось на протяжении десяти лет учиться внутренней свободе у заключенной, знакомой мне только из писем.
Что радовало в ее произведениях, так это то, что не нужно было задумываться о цензуре и править тексты. Ларка писала с учетом того, что надзиратели в лагере тоже с радостью обогащались нашими идеями и творческими излияниями пера на полотно жизни.
Политику и экономику мы не обсуждали, скорее жизнь театра, афиши, случаи из жизни. Они, эти трагикомичные истории двух дам с надрывистым почерком, позже стали основой для «Ларкиной жизни», так бережно хранимой в комоде под парадными трусами.
Признаться, я подумывала купить ей печатную машинку, но о дальнейших планах она ничего не рассказывала, как и том, есть ли у нее близкие и родные. Для меня она была чем-то сродни старшей сестры, которая заочно воспитала из правильной и квадратной меня круглую и неправильную, живую меня же, с подвижным умом и привычкой анализировать повседневную жизнь творчески, с юмором, а порой и в стихотворной форме.
Благодаря ей я начала писать небольшие эссе и стихотворения, исписывая черновики с чертежами полукруглыми буквами с завитушками – так, для радости. Творчество оживляло меня, вдыхая тот неповторимый ветерок жизни, выдёргивая из серости и зажатости общественной жизни. Я, вдохновленная письмами Ларисы, начала ценить свою свободу, чаще бывать на природе, ездить на велосипеде и купаться в родниках и близлежащих речушках. Позже мне захотелось писать о весне, о природе, ее свежести и необъятности. О том, как все мы взаимосвязаны на этой планете. Писанина складывалась сама собой, то в стихотворной, то в прозаической форме. Особо мне удавалось описывать природу, леса, поля, что, с учетом идеологии правильного на скорую руку общества, было как никогда кстати в виду неконфликтности и максимальной удаленности от политбюро.
Через три года мои эссе и стихотворения попали в газеты и несколько из них были даже напечатаны мелким и в то же время необъятно прекрасным шрифтом. Мои произведения в печати! Я хранила газеты на видном месте, танцевала с ними, наслаждаясь каждой буквой и каждым пробелом. Ларкины произведения я тоже складывала стопочкой для праздничного отчета автору. Гонорары я все также бережно пересчитывала и складывала в Ларкину жизнь. А Ларка тем временем жила, записывая свои произведения на полинялой бумаге с желтоватыми пятнами, пахнущими машинным маслом и керосином.
Чуть позже она поведала мне историю этой самой бумаги. Оказывается, аристократичная и в меру воспитанная осужденная поначалу была вынуждена хранить ее под блузой весь рабочий день, поскольку таскала оберточную бумагу из-под горюче-смазочных материалов в цехе. Черновиками у нее служили газеты, щедро выложенные стопками в дамской уборной, поскольку той бумаги, которую ей выдавали, хватало на пару недель, что с ее плодотворностью было даже несколько смешно. Она, курносая и с пружинистыми кудрями, меняла сигареты на карандаши, поскольку сама не то, что не курила, но и не писала никогда об этом, считая чем-то, достойным осуждения. Иногда она клянчила бумагу из-под передач у соседок. Передовик в сборе макулатуры, она за месяц собирала в своей коморке столько черновиков, что приходилось их потом сжигать, пронося в той же самой блузе словно контрабанду. Но надсмотрщицы, зная ее особенности, спокойно относились к творческой бунтовщице, порой подкидывая ей бумагу из-под бутербродов и обедов, а то и вовсе принося ей тетради и небольшие стопки бумаги. Ларка писала им стихотворения ко дню рождения начальства и всей неизвестно откуда взявшейся многочисленной родни. Порой Ларка участвовала в тюремных романах, изливая любовную лирику на партнеров по переписке своих соседок и надзирательниц.
В комоде под зеркалом, все же надеясь на нашу встречу в будущем, я хранила сверток лучшей бумаги, которую только смогла достать с десятком-другим карандашей, а также помаду красивого малинового оттенка, тушь и набор дамского нижнего белья. Размера ее я не знала, но из женской солидарности считала себя обязанной подарить ей что-нибудь красивое и женственное.
Ларка однажды написала, что единственное, что ее удручало в лагерной жизни и с чем она так и не смогла смириться – отсутствие женственности. Какие там наряды, просто чистой речи не хватало порой для жизни, культурной и сносной компании. Женщины, работая в цехах и опыляясь от видавших виды заключенных, быстро теряли нежность и какую-либо женственность, речь их становилась грубой как мозоли на руках и ржавой как трубы в общественных туалетах. Постоянно курящие и пьющие чафир, они были чем-то вроде биомассы, используемой для работы в цеху, «раз уж обществу не сгодились». Зечки быстро теряли веру в себя, отказывались учиться и перевоспитывались на новый манер, позабыв напрочь о свободе с ее березками, платьями и зелеными лодочками по последней моде. Книги в библиотеке брали редко, а сама библиотекарша Зоя, которая вызывала у Ларки жгучую зависть своим местом занятости, книги выдавала не всем и не всегда.
Ларке выдавала, считая ее родственной душой и в целом культурным человеком. Зоя была практически единственным единомышленником хрупковатой и творчески просвещенной Ларисы, которая дружила всегда и со всеми. Сама она признавалась, что ее спасало творчество, особенно поэзия. В описаниях природы она гуляла, наслаждаясь свободой и невинной красой необъятной Родины. Реки, горы, цветы, облака – все оживало в ее произведениях, становилось наполненным и оживляло, наполняло ее саму, сохраняя утонченность и изящество речи.
Закипятив снова чайник и торжественно достав конверт с бумагой и дефицитным бельем, я ждала Ларку из царства снов как верный пес и перьеносец. Один Бог мог знать, что ей снилось и почему так долго. Уже была половина одиннадцатого, а она все еще посапывала в подушку с лицом ангела, окунувшего по незнанию руки в преисподнюю. Белокурая поэтесса, говорившая по ночам полусонным голосом, вызывала умиление и была причиной моего тихого и радостного умиротворения, поскольку я, начитавшись в газетах рассказов про лагерную жизнь, все же немного переживала за нее и ее здоровье, как физическое, так и моральное.
Честно говоря, увидев ее воочию в первый раз, я ожидала, что она будет такой же, как и в письмах – легкой как ветер, с горящими поэзией глазами, словно муза лагерной жизни. Она же была совершенно земной и в то же время похожей на грибной дождик к обеду, свежей и майской. С превосходным чувством юмора и красивой осанкой, она шутила бесстрашнее Сталина и молчала ярче Зыкиной. К ее радости и безусловному везению, седина только слегка скрасила ее белокурые локоны и оживила вполне приятные черты лица с глубокими и красивыми серыми глазами. Она не была красавицей в прямом смысле этого слова, но в ней жила какая-то иная красота, недоступная глазу, содержащая в себе то, как она двигалась, говорила, улыбалась. Такое чувство, что она объединила в себе разные противоположности, создав неповторимую сложность характера. Складывалось такое впечатление, что сама поэзия, плавящая грубость и скрашивающая серость быта лагеря, смотрела через нее ласково и просто, трогая до души, словно природа в ее стихах.
Тем временем Ларка таки проснулась. Потягиваясь в постели, она улыбнулась мне и тихонько, с легким юморком произнесла: «сегодня идем на природу, а потом в кафетерий. Буду тебя угощать и укрощать, строптивица».
Строптивицей она меня прозвала из-за раскрывшегося во мне внезапно пару лет назад литературного бунтарства, выразившегося в коробке на антресоли с весьма неоднозначными произведениями. Как только Ларка пришла в себя после пяти с лишним дней в поезде, я тут же поставила перед ней эту самую коробку с эссе, миниатюрами и рассказами политического и иного содержания. Рядом я поставила бутылку лучшего самогона и два натертых до блеска граненых стакана. До полуночи мы с хохотом, напоминающим неистовый шабаш в советской пятиэтажке, цитировали мои искрометные произведения, которыми я так жаждала поделиться все это время. В них я писала об обществе, о людях, о том, как хотела бы свободы и радости, бесстрашия и завершенности. Эта коробка ждала ее и была одной из основных причин, по которым я так хотела с ней встретиться. Произведения, лишенные напрочь солнца и зрителя, лежали на антресоли, их было больше некому показать без опаски попасть к Ларке в затяжные и не совсем радостные гости.
Ларка, напялив забинтованные изолентой очки и выпив стакан самогона, с иронией изрекла: «небось купалась голой в лесу и свободомыслия короб надуло… Похвально и вместе с тем трагично. Ты же знаешь, что будет если их прочтут? Сожги и забудь. Не оставляй так, на виду».