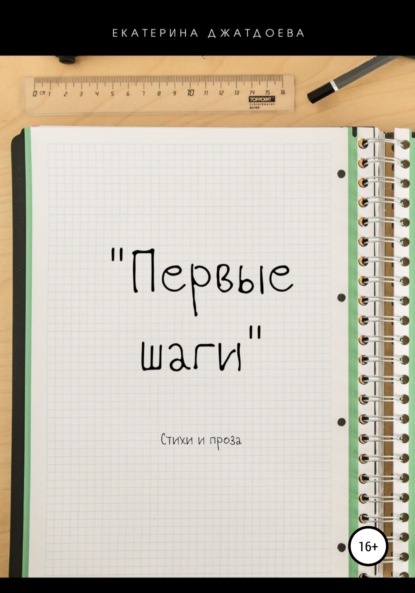По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Первые шаги. Стихи и проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я не оставляла, но сжечь их так и не смогла. Эти произведения были частью меня. Настоящей меня. Они, как противовес поэзии и миниатюрам о природе, красоте, идеалах, были подлинными как моя собственная селезенка. Они были частью моего сердца и почек. Кусочком души, света моей искренности. Глядя на эту коробку, я не могла отказаться от себя новой – честной и круглой, естественной и спонтанной, будто сама моя спонтанность жила в них, в каждом из них.
Они, вместе с Ларкой, стали мне лучшими друзьями и соратниками. Ироничные, с юмором и перчинкой, порой несколько серьезные, они были мне так дороги, как могут быть дороги только настоящие друзья. Некоторые из них были с помарками и рисунками на полях, в кляксах, но каждое произведение было неподдельной частью меня, моей сущности, моего опыта. Они были манифестом моего чувствования. Я, до этого сероватая и порой слишком умная, только недавно научилась чувствовать, проживать жизнь по-настоящему, в грозу и радость современного дня. И эти небольшие и для советского народа неуместные произведения, были моим выражением. Они были жи-вы-ми, как и я, со слезами, со смехом, с сердцем. Они заменили мне общество людей, которые, как и я до недавнего времени, упорно отказывались чувствовать себя, свою жизнь, свою разумность.
Ларка тем временем нашла горячий чайник и, заварив чай, ела карамельки, накрасив губы красивой розовой помадой. Сколько их в нее помещалось, до сих пор диву даюсь. Карамельная дива, нисколько не переживая за свои зубы и пищеварение, словно светилась от восторга. Она не ела конфет больше двадцати лет. Подумать только, двадцать лет без конфет. Двадцать лет БЕЗ КОНФЕТ!
Вообще она была простовата, что меня несколько изумляло, ведь ее стихи и рассказы были действительно изысканны именно своей простотой. Они были жизненны, но в то же время абсолютно уравновешены. Ни пошлости, ни лишней драмы, как в «Девчатах»: каждая калория на своем месте. Ее произведения учили меня чувствовать, как и ее письма о том, что прожить жизнь, не прочувствовав – пустая трата обедов и писчей бумаги.
И эта женщина, ставшая уже в меру известной в местных газетах, сияя от счастья в моей потрепанной обстановке, и наслаждаясь конфетами, была абсолютна жива. Жива до слез, до моих искренних слез счастья, выразившихся в резком выпаде вперед в попытке обнять эту странноватую и чавкающую женщину без угрызений совести и излишних прелюдий. Ларка, выбирающая, чем насладиться в этот момент – объятиями или конфетами, все же выбрала меня и вымолвила с набитым ртом: «пойдем-ка искупаемся где-нибудь, а то душновато в городе. Тело требует поэзии».
На самом деле ей не было душно в городе, она жаждала чувствовать свободу, о которой только писала, двадцать лет сидя взаперти и наслаждаясь ей только в своих произведениях, выжимая память до трухи в попытках прочувствовать снова вкус черешни, услышать шелест листьев и прохладу речки на коже.
Она хотела купаться голышом, обнимать деревья, есть мороженное и желе в кафетерии, танцевать вальс в парке с пожилыми и обходительными кавалерами, жаждала ощущать свободу всем своим существом. Я, как тихий зритель ее счастья, была рядом и с каждым таким моментом искренне радовалась и жадно училась ее способности быть живой и настоящей.
За городом было небольшое озеро, в котором никто и никогда не купался, опасаясь то ли клещей, то ли социально нестабильных элементов общества, то ли себя самих. Да и не принято это было. Осуждаемо.
Обычно по вечерам, как только становилось темно, я, несколько боязливо скидывая одежду, заходила в воду и училась чувствовать, раскрепощала тело, водила руками в воде, плавала, ныряла, кувыркалась. Это было необычно и приятно. Поначалу нагота мне не легко давалась, но через месяц я уже ходила дома в одном белье, считая, что только так и должен быть одет порядочный человек. Писать стало легче, дышать и думать стало гораздо свободнее.
Ларка же ночи дожидаться не стала. На бегу потряхивая кудрями, ослепляя меня своими волосами и белоснежным задом, она врезалась на приличной скорости в прохладную воду с визжанием и криками амазонки, мечущей копье в незримого противника – быт и серый материализм. Я стояла, изумленно считая потери и прикидывая, чем лечить ее синяки после такого свидания с водой. Она же, неприличной, но счастливой звездой разлеглась на спине в воде, распугав все нестабильные элементы общества и грибников вкупе с застывшими на месте внучатами. Озеро наполнилось криками и брызгами до неприличия живой женщины. Но тут Ларка в чем мать родила встала в воде и помчалась на берег будто апостол, впившись в меня как в цель ее эстафеты. Я замерла, не думая и почти не дыша. «Бумагу дай!» – кричала она во весь голос. Я ненароком думала, что ее прижало, потянувшись к лопуху справа. «И карандаш!» – она вопила как умалишенная, все еще на бегу протягивая ко мне руки как к Спасителю. Я, в оцепенении, все же смекнула что к чему и несмело начала рыться в сумке.
Ларка настигла меня ураганом и, вырвав сумку и вывалив все содержимое на землю, нашла в куче кусочек бумаги из-под пирожного и мой дорогущий дефицитный карандаш для бровей. Сев все еще в неглиже на землю как трехлетний ребенок, она начала писать, исторгая звуки окончаний и судорожно дыша. Практически уничтожив карандаш, она оцепенела, выдохнула и заревела во весь голос, исторгая исполинские слезы и размазывая их с карандашом и розовой помадой по всему лицу.
Следует отметить, зрелище было не для слабонервных. Со стороны все выглядело так, будто умалишенные вырвались на прогулку, окончательно упрочив бытующее о себе мнение. Но на самом деле Ларка, почуяв нутром вдохновение, помчалась писать стихотворение, напрочь забыв обо всем остальном. Она, плача и раскрасневшись словно пушистый помидор, тихонько повторяла: «Это первое! Первое, понимаешь?».
– Что первое-то? Сентября? – спросила я, недоумевая и готовясь к ответу.
– Это первое. Оно – первое. На свободе…оно – первое. Оно – свободное! – Ларка рыдала и булькала, голая и мокрая на берегу озера, вся в глинистой земле и дефицитном карандаше для бровей.
И тут меня осенило. Аристократичная женщина, сейчас драматично распластавшаяся на берегу в соплях и слезах и измазанная глиной, поведала мне как-то в письме, что, будучи в местах не столь отдаленных, сетовала на отсутствие природы. Мол, не так пишется взаперти. Стих не тот, слог не тот, чего-то не хватает. И сколько она ни старалась создать условия для музы, от нее всегда ускользал какой-то кусочек, нотка произведения, лишая его полноценности, свежести.
А теперь оно было первым, полным, оно было живым и без натуги памяти, не из прошлого и не из будущего. Оно было прямо из озера, из того самого настоящего момента, где голая женщина вырвала из моих рук сумку, истошно рыдая в приступе вдохновения.
Обняв Ларку, я заплакала вместе с ней. И в этих слезах было все: грусть, радость, счастье за подругу, нечто невыразимо прекрасное и ужасное одновременно. Это был первый раз, когда я прочувствовала, через что ей, такой легкой и невесомой, пришлось пройти. Двадцать лет лагеря и культурного голода. Тяжелая работа и неистовое желание творить, писать, выражать себя и свое воззрение, свое чувствование прекрасного через призму серого лагерного быта, сломавшего всех, кроме хрупкого и чувственного поэта, втихаря ворующего бумагу и меняющего сигареты на карандаши.
Такое ощущение, что все эти двадцать лет вышли из нее вместе со слезами, с этим первым свободным стихом, будто ее мечта вырвалась в тот момент, расправив крылья свободы и поэзии. В этот момент я почувствовала жгучее рвение сделать все, только чтобы Ларка почувствовала себя лучше, свободнее, чтобы как-то компенсировать ей эти годы серости и лагерного быта. Это было чувство героизма, известное мне только по яблокам, которыми я иногда делилась с грустными бабушками на улицах города.
Домой мы ехали как в бреду. Ларка, одетая наспех и насильно умытая, сжимала изо всех сил бумажонку с написанным карандашом стихотворением. Она уже успокоилась и улыбалась, блаженно разглядывая стихотворение как первый шажок в свободную жизнь.
«А где рамки продаются?» – спросила она с детской невинностью в глазах и полезла в потертый цвета древесной коры кошелек с металлической и слегка ржавой застежкой.
«Мне же хватит?» – спросила она, приоткрыв сумочку и вытряхивая неказистое содержимое на ладошку.
«У меня есть дома рамка. Будет хорошо смотреться» – промолвила я с одобрительной улыбкой, все еще скрывая свой внутренний ужас. Как она, такая легкая, интеллигентная и радушная, могла попасть в лагерь? Чем не угодила и кому? Бумагу воровала? Единственной догадкой были ее стихи, такие прозрачные и свежие на первый взгляд. Может охаяла какую властвующую персону? Спрашивать было неудобно и не хотелось ее тревожить снова. После случая на озере я, узнав ее заново, такую хрупкую и ранимую, стала относиться к ней как к хрустальной статуэтке в посудной лавке – с трепетом и особой нежностью.
Решив дать ей отдохнуть, я накормила мадам спонтанность мороженым с конфитюром. Звеня ложкой о вазочку с почти растаявшим мороженным, Ларка посмотрела на меня и несмело спросила:
«А что сейчас, печатают стихи, рассказы? Не узнавала?»
Я узнавала, но говорить о «Ларкиной жизни» и ее почти готовом имени в литературных кругах пока не хотела, она и так была потрясена своим утренним произведением до самого основания. Решила отложить тайну под парадными трусами в комоде на неопределённое время, скорее всего до утра.
Тем временем, сидя в кафетерии, две женщины, я и Ларка, почувствовали наступление нового времени, так тихо и незаметно коснувшегося нас обеих прохладным, с запахом свежих полевых цветов, ветерком в летней жаре, унося с собой все прошлое и лишнее, привнеся свежесть новизны в будничный и ни к чему не обязывающий день. Мы будто растворились в вечерней летней прохладе, вкусе мороженого, разговорах прохожих и стуках ложечек о пиалы. Завершался летний день и с ним уходила жара и напряжение, сменяясь легкой прохладой.
– Что дальше? – спросила я, позабыв об утреннем инциденте – родственники-то у тебя есть, муж, дети?
– Детей нет, мужа тоже. Я свободна как капризы Раневской. – Ларка озадаченно смотрела в мороженицу, выводя пломбиром шедевры. Наверное, такие рисунки людей, озадаченных и размышляющих о жизни, оказавшейся в тупике, могли бы стать полноценной выставкой в галерее искусств, но обычно отправлялись в мусор, как и куча других нужных вещичек, записей, рисунков и стишков на скорую руку.
– Останешься у меня? – я не знала, на сколько именно времени могла приютить внезапно свободную Ларису, но все же хотела ей помочь хоть чем-нибудь. – Или у тебя дом есть?
– Дома нет. Да и дом ли это, когда писать не можешь, читать не дают и жить приходится втихаря? У тебя еще самогон остался? – спросила она невинно с почти детским лицом.
– Остался – ехидно и с огоньком ответила я, зная, что только этот самый напиток сможет сейчас помочь ей уснуть и пойти вперед без лишних волнений и переживаний словно воинам на битве при Ватерлоо.
Добредя до квартиры, расположенной аккурат у парка, мы уселись на балконе с горячительным и миской черешни, и смотрели на закат, окрасивший все в оранжево-золотистый цвет. Едва ощущая остатки тепла на коже, мы уснули, позабыв напрочь обо всем, что было до черешни и самогонки, разлитой аккурат на два граненных стакана.
Утром я проснулась от навязчивого ощущения, что на меня кто-то смотрит. Нехотя открыв глаза, я поняла, что была права. Ларка сидела с чаем и бубликами, словно белокурая паночка. Похрустывая выпечкой, барыня приказали кратко и с загадкой в голосе: «одевайся, через час выходим. И карандаш возьми».
Приняв душ и еще немного пошатываясь от вчерашнего горячительного, я влезла в брюки широкого кроя, размышляя над тем, как признаться Ларке в ее конверте под трусами.
Ларка, довольная и расслабленная, сидела на балконе, гоняя уже четвертую чашку чая и совершенно не задумываясь о том, где мы будем искать туалет. Увидев меня, стоявшую в дверях с видом первоклашки, она понялась со стула и потащила меня в мир по ту сторону двери.
Мир, надо сказать, не самый радостный и разнообразный. Был вторник, половина восьмого утра. Граждане с сумками и портфелями ровными строями шли на работу и в школу, делая мир еще более серым выражениями своего лица.
Мы, миновав три остановки пешком вдоль проезжей части, свернули в парк с его еще разнообразной летней растительностью. От парка повеяло прохладой и зеленью, такой необходимой мне после вчерашнего. Тропинки, протоптанные массово окультуривающимися гражданами, поглотили нас своей зеленью с солнечными просветами и доставили аккурат к заброшенной сцене в самом сердце культурного центра.
Сцена, выполненная из арматуры и обшитая уже посеревшей от времени древесиной, выглядела на совесть сработанной, хоть и поскрипывала под ногами и пахла старостью. Ларка, поравнявшись со сценой, стала как вкопанная жердь, выпрямившись во весь рост и драматичным голосом провозгласив: «На, читай, да так, чтобы деревья хохотали» – вытащила коробку с моей антресоли с запрещенным чтивом. «Во весь голос, как на утреннике!» – строго сказала моя наставница. «Поэт должен быть услышанным».
Я, робко взяв коробку и побредя к сцене на полусогнутых, все думала: «что же будет если кто услышит? Посадят или уволят. Как я буду жить без работы?» Мысли неслись подобно урагану, захватившему меня и оставившему в эпицентре. Очутившись на сцене, я, дрожащими руками открыла коробку и взяла первую попавшуюся в руки рукопись. Сначала тихо, потом все громче и громче я начала набивать такт куплетами ровных строчек, говоривших о жизни в совке, о том, чем живут люди, о свободе, о бесстрашии, о политике и всеобщей глупости, нарастающей с каждым годом.
Ближе к середине я почувствовала, что меня уже трясло от напряжения, будто сердце готово было вырваться и закричать от бессилия. В конце я просто рухнула на сцену в опустошении и слезах, готовая сжечь всю коробку к чертям вместе со сценой. Слезы текли ручьями, опустошая и вымывая все то бессилие и невозможность выразить себя, реализовать. Я чувствовала неимоверную злость и опустошение. Спустя полчаса рев стих, и я почувствовала облегчение, посмотрев на коробку с рукописями. Они изменились! Точнее, изменилось мое отношение к ним. Они перестали быть запретным балластом. Они стали произведениями, которые ждут своего часа. И не более того.
– Замечательно. Спускайся с постамента, давай отмечать дебют. – Ларка достала из сумки чай в термосе и бутерброды, немного сладкого и, взметнув руки приглашающим жестом, начала есть, громко и неповторимо изящно жуя деликатесы местного производства. Я села рядом в опустошении и налила чаю, уставившись на бутерброды пустым взглядом. Бутерброды выглядели аппетитно и звали меня, приманивая ароматом. Протянув руку к одному и тихонько куснув, я начала потихоньку возвращаться к жизни. Взгляд ожил, появился румянец и аппетит. Бутерброды я съела почти все, запив чаем и оставив парочку Ларке, довольно наблюдающей за моей трапезой.
– У тебя до какого отпуск?
– Еще неделя осталась.
– Догуляем и я поеду. Пора уже, а то засиделась. Теперь на одном месте долго не буду жить.
– Может останешься? Мы ж одинокие, а тут хоть вместе будем. Какая разница где жить? Тем более я тебе работу подыскала по душе и по карману.
Ларка молчала. Напряжение повисло в воздухе и я, чтобы его как-то разбавить, начала свой эпичный рассказ про конверт под трусами, про ее публикации в журналах, про Ларису Круглову. Я тараторила как солдат перед прапорщиком, а она менялась в лице с каждым предложением, с каждым словом. То погружаясь в тишину, то напрягая лицо и едва сдерживая слезы. Ближе к концу рассказа лицо ее нервно задергалось от напряжения и в мгновение расслабилось. Слезы покатились из глаз белокурой поэтессы, откинувшейся на землю и смотрящей в небо без признаков каких-либо чувств.
– Когда меня посадили в 61-м – тихо, едва сдерживая чувства, начала она – я зареклась снова писать. В один момент я лишилась всего: дома, семьи, мужа, творчества. Всего. Через год лагеря поняла, что начала меняться и написала последнее свое стихотворение, отправила мужу с разводом, чтобы не ждал. Родителей не стало, про работу и говорить нечего. До твоего письма я не писала, только хранила в кармане треугольник с прощальным стихотворением, чтобы не сорваться. Носила с собой и как только хотела Васе написать, доставала из кармана и перечитывала, вспоминала, как не хотела его лишать молодости, жизни, радости. Я же из-за писанины этой и села-то. Написала прощальное и зареклась – не буду больше, не нужен миру поэт, если с ним так обошлись.
А позже получила твое письмо, другое, третье. Тягомотину твою праведную прочитала про общество и правопорядок, и ожило во мне что-то, взбунтовалось. Так потихоньку и начала писать, вдохновляться, о свободе вспоминать, о том, как вишня цвела у ручья, как с Васей гуляли, счастливы были. Треугольник этот до дыр зачитала, да и позабыл он уже обо мне. Столько лет прошло…
А тут ты появилась, правильная такая, но не донца, как выяснилось. Начали с тобой переписку вести и как-то мне жить захотелось, творить. О природе писать, о воле, о жизни.
А ты, торгашка, меня увековечить, оказывается, решила… Вот спасибо! Деньги пригодятся, конечно, только вот писать мне нельзя, опять посадят. За Круглову тебе отдельная благодарность, комплимент, конечно. Как угадала, не знаю.