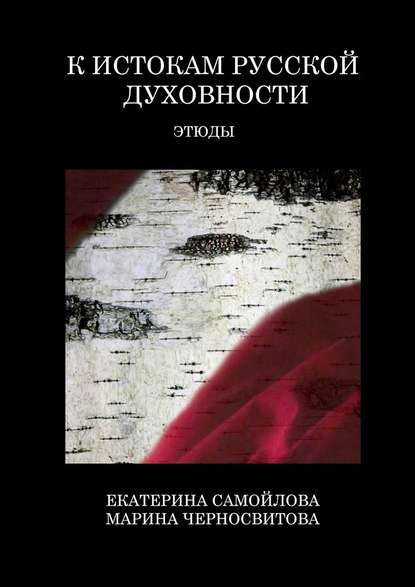По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
К истокам русской духовности. Этюды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как будто России
и совести нашей кровинка —
Весь в красной калине
художник российский лежал.
Когда мы родились
с российской закваской мужицкой,
Нас тянет к природе,
к есенинским чистым стихам.
Нам с ложью не сжиться
в уюте ужей не ужиться,
и сердце, как сокол,
как связанный Разин Степан.
Искусство народно,
когда в нем не сахар обмана,
а солью родимой земли
просолилось навек.
…Мечта Шукшина
о несбывшейся роли Степана
взбугрилась, как Волка, на миг
подо льдом замороженных век».
В этих «гастрономических» стихах нет правды о Шукшине, нет о нем и боле. Хорошо, что «живот» и «жизнь» по-русски – синонимы. Есть в них то, что, перефразируя Шукшина самого, «мясом приросло» к его имени – «мужик», «народ», «Россия», «родная земля». И имя Есенина в этой же спайке.
В неоконченном очерке (статье), написанном в 1967 году по заданию «Правды», В. М. Шукшин теряется в поисках мучительных для него ответов, почему молодежь уходит из современного села? И со свойственной ему способностью додумать думу до конца, он неожиданно пишет: «Ведь, в сущности, распался целый крестьянский род. Сам себе, совсем уж по наивному (или «под наив»), задает вопрос: «А могли бы они снова собраться?» В этом вопросе, скорее, лишь желание Шукшина, чтобы так было, чтобы крестьянская родословная была бы восстановлена самой жизнью[10 - Шукшин искал происхождение своей фамилии среди свода древнерусских имен, прозвищ, фамилий «Ономастикона» академика С. Б. Веселовского и не нашел, чем был очень огорчен. В повести «Я пришел дать вам волю» Василий Макарович так представляет свою родословную: «Ты родом-то откуда? – спрашивает атаман Степан Разин у «патриарха»… «Мы, вишь, коноплю ростили да поместнику свозили. А потом мы же замачивали ее, сушили, мяли, теребили… Ну, веревки вили, канаты…». В этимологическом словаре Б. Федосюка «Русские фамилии» читаем: «Шукша – льняная костра, то есть волокна, остающиеся после трепания и чесания льна. Вероятно, слово применялось и в переносном более широком значении: остаток, излишек. Отсюда прозвище последнего, поздно родившегося ребенка». Перечитайте, что сказано о конопле у Шукшина и у Федосюка… В этом есть и более глубокий смысл, если перенести все на человека. Так фатум шукши, видно, довлел над родом Василия Макаровича.]. В этом его эмоциональное и личностное отношение к процессам, происходящим в деревне. Молодежь уходит… от земли. Это больше, чем покинуть Родину. Эмигрант может вернуться на свою Родину, если не порывает с ней духовно. Тот, кто уходит с земли, в точном смысле этих слов, порывает со своей родословной, меняет свою сущностную ипостась. Конечно, многое в жизни «требует жертв», больших жертв и потерь. Не случайно в этом же году, написав «Монолог на лестнице», Василий Макарович предельно сближает интеллигента с «подвижничеством». Несомненно, есть внутренние мостки между логикой, объясняющей (а, значит, оправдывающей) уход с земли и духовное служение своему народу, как подвиг и жертва. Только таким образом можно оправдать покидающих землю. Но только частично. Это прочувствовал Шукшин на своем собственном жизненном опыте. Он ведь тоже покинул свою «малую Родину», и его, Василия Макаровича Шукшина, «крестьянский род» распался. Совсем незадолго до своей смерти он пишет («Монолог на лестнице»): «Так у меня вышло к сорока года, что я – ни городской до конца, ни деревенский уже». Ни два, ни полтора, – говорят о таком положении в народе. «Ужасно неудобное положение, – поясняет Шукшин. – Это даже – не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке… Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю – упадешь». Здесь идет речь о нравственном неудобстве, а в конечном итоге – о духовности человека, его моральном статусе.
От «Вопросов самому себе» перенесемся, однако, к рассказам Василия Шукшина. Но сразу же подчеркнем, что принципиально согласны со многими авторами (С. Залыгин, В. Распутин, В. Горн и др.), которые не разделяют традиционно В. М. Шукшина, как конкретного человека, личность, его как автора художественного произведения и его литературных героев, ставят смысловые акценты на то, что есть общего между этими тремя ипостасями. В этом мы поддаемся великому соблазну отождествления человека-творца, субъекта творчества и его, так сказать, «продукта». С Есениным, как мы говорил выше, такая логика приводит к трагическому выводу. Все же, думаем, что, играя в своих героев, Шукшин работал все под тот же наив и таким образом «зашифровывался».
Итак, в «Дяде Ермолае» (1971 г.) читаем: «Теперь, много-много лет спустя, когда я бывают дома и прихожу на кладбище помянуть родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай… вич».
Еромлай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю – стою над могилой, думаю. И дума моя о нем – простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка, простая дума». Остановимся на этом месте и вспомним о распавшемся крестьянском роде. А ведь здесь, на кладбище, все тут! Читаем дальше: «Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или – не было никакого смысла, а была работа, работа…». Конечно же, это размышление Василия Макаровича не только об этих, дорогих и хорошо знакомых ему людях. Нет. Это его дума все о том же целом крестьянском роде. Вот поэтому он и «додумать ее не умеет». Дальше он пишет: «Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе (ниже мы поясним, что здесь Шукшин имеет в виду – Е.С., М. Ч.). Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так – не кто умнее, а кто – ближе к Истине. И уже совсем мучительно – до отчаяния и злости – не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так – грамоты ради, и слегка из трусости – величаю ее с заглавной буквы, а не знаю – что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их». Еще раз… «Люблю этих, под холмиками. Уважаю». Это о тех, кто остался с землей, пусть хотя бы таким образом, что остался в своей земле навечно. Это все к тому же, «распавшемуся крестьянском роду», и еще к одному, по-русски проклятому вопросу, почему молодежь уходит из села, и что из этого происходит? Нет, не в бытовом отношении (на этот счет Шукшин говорит определенно и однозначно, когда деревня теряет труженика, город приобретает… «мещанина… существо… беспрерывно, судорожными движениями сокращающееся в сторону «сладкой жизни», или «хама», а, так сказать, в бытийственном смысле. «От сравнений, от всяких «оттуда-сюда» и «отсюда-туда», невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» – о России», – пишет Шукшин в «Монологе на лестнице»). Распадается село? Россия? Громадная общность людей?
Конечно же, речь идет о народности и духовности нашей, когда В. М. Шукшин оперирует понятиями «город», «деревня», «крестьянский род», «земля», «интеллигент». И здесь, попутно скажем, и такими понятиями, как мода и обычай (читай: «Мода – это чисто человеческое „изобретение“, возникло с людьми и с людьми умрет… там, где решаются коренные вопросы бытия, мода молчит», «Обычай не придумаешь, это невозможно»).
В «Слове о «малой родине» (1973 г.) он, в частности, пишет: «Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с Родины (понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину»)[11 - Сейчас, если бы был жив Василий Макарович, он не мог бы обойти проблему покидающих «большую Родину», проблему русской эмиграции, лучшие представители которой, эмигранты первой волны, никогда не порывали духовно с Россией. Бежавшие из СССР – люди широко душевного диапазона. Эмигранты постсоветской России также не однородное «племя». Мы это понимаем прекрасно! Но, все же, вернемся к Василию Шукшину, нашей «системе отсчета» и «шкале ценностей»…] – а таких много, – невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит». Да, здесь точно подмечено, откуда в человеческой душе начинается опустошение. Доведем до логического конца эту мысль Василия Макаровича – «душевное опустошение, бездуховность есть следствие разрыва с «мало родиной». В другом месте, в связи с раскрытием образа Егора Прокудина, он называет это «предательством» («…ушел от корней, ушел от истоков, ушел от матери… И, таким образом, уйдя – предал» («Я родом из деревни»).
Шукшин, касаясь «деревенской» темы, уходит в философские, глубинные основы бытия. Россия, духовность наша, приобретают у него Вселенский смысл. Место и время при этом играют роль второстепенную. Пространственно-временное и событийное оформление многих деревенских рассказов, при внимательном их прочтении, всего лишь мизансцена, на которой вновь и вновь выступают извечные человеческие конфликты… с бытием, богом, совестью и человека с человеком («Лично я старался рассказать про события. Они что? Они с нами происходят каждый день. А сами с собой мы остаемся пореже»).
В рассказе «Хозяин бани и огорода» два деревенских мужика перед субботней баней вдруг начинают говорить о смерти. «Хозяин» затевает этот разговор – его интересует его собственная смерть. Бытовая сторона смерти, похороны описываются в спокойном повествовательном тоне. И до конца рассказа, до самого последнего слова в этом рассказе мы и не догадываемся, что «хозяин» по своему положению в мире давно мертвец. Мертвая душа – все душа. А здесь – мертвое тело, то есть труп (кадавр, как говорили древние греки, четко различая мертвую душу, мертвеца-для-самого-себя, от мертвого тела, мертвеца-для-других). Этот «куркуль» умер давно (а, может быть и на свет появился «мертворожденным»). Он лишь воображает, что жив, ибо не замечает своей «мертвятины». Читатель начинает понимать, что это «мертвая душа» через его собеседника. Но, жив ли тот сам – мы так и не узнаем! Василий Макарович пишет, заканчивая рассказ: «Хозяин бани и огорода засмеялся (о, этот замогильный смех! – Е.С., М. Ч). Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду». А в ограде ведь не жилой и теплый дом, а холодная могила. Телесная смерь, если понимать ее, как понимали древние, не более страшная вещь, чем смерть душевная (смерть-для-себя). Страшна всегда духовная гибель. У этого шукшинского сельского жителя, при таком положении в мире, возможно лишь единственное мироощущение – духовного мертвеца… О, что можно было бы сказать, в этой «шкале ценностей» о современных, «постсоветских мертвецах»?!
Деревни начали умирать при Василии Шукшине вместе с городом. Просто в городе смерть – умирание менее заметное явление, чем в деревне. Ведь деревня до сих пор, даже в ХХI веке, так или иначе ассоциируется в сознании русского человека – с Природой. «Мертвое» же на лоне Природы, хорошо заметно. Город, этот железобетонный механизм, мертв по своей конструкции. Жизнь в нем осуществляется по законам механики («оттуда-сюда» и «отсюда-туда»). Русские города, еще недавно, лет 20—25 назад, были связаны с деревнями и селами – духовной связью. Поэтому все, что происходило там, в городе, происходило, в слегка заретушированном виде, и здесь, в деревне.
В «Слове о «малой родине» В. М. Шукшин пишет: «У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: «Ну, вот это, что ли, и есть та самая жизнь – так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы – это уже тоже, по-своему, несвобода». Мы понимаем, о какой «красивой» жизни и каком самочувствии здесь идет речь – о европейском типе отношений – человека с собой, другим человеком и, следовательно, жизнью. О, безупречной отточенности и выверенности слов и жестов, не требующих для своей реализации эмоциональных затрат. Вряд ли прав Василий Макарович, называя это «несвободой». Нет, это просто другая свобода другой общности людей, объединенных на определенной части Земли – в Европе («Европа – от Парижа до Урала»… Это крылатое высказывание генерала Шарля де Голля, по меньшей мере, звучит двусмысленно). В Европе своя духовность, своя культура. Просто Шукшин был там, в Европе, человеком со стороны и всецело в своей, собственной духовности, символом которой является крестьянская изба, объединяющая вокруг себя целый крестьянский род. Василий Макарович далее пишет: «В доме деда была непринужденность, была свобода полная… Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там».
А еще читаем: «Изба простолюдина – это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками…
Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок – небесному своду, а матица – Млечному Пути». Но это уже не Шукшин, это – Есенин пишет в «Ключах Марии».
В. Ходасевич в своем «Некрополе» обосновывает свое «предчувствие» самоубийства Сергея Есенина, логикой тупика, в котором оказался поэт, идеализируя избяную Русь. Он пишет в заключении: «История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую верил он, не было. Грядущая Инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, – не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевистская революция есть путь к тому, что „больше революции“, а она оказалась путем к последней мерзости – к нэпу (ха-ха – вот сейчас, в постсоветской России, мы видим „свинцовые мерзости жизни“, о которых пророчески говорил А. М. Горький! – Е.С., М.Ч.) … Горе его было в том, что он не сумел назвать ее: он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Руссию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Рассею, пытался принять даже С. С. С.Р., – одно лишь верное имя не пришло ему на уста: Россия». «Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно – умереть».
Вот так – от избы к мечте и, дальше, к… смерти…
И Шукшин, выходит, тоже был за «избяную Русь»? Но зададим и мы себе наивный вопрос: «А можно ли вернуться к нему, такому самочувствию в жизни, которое царило в крестьянских избах?» Ведь, действительно, какой русский человек не тоскует в душе о нем, этом самочувствии, если в душе своей он мужик?! Но, будучи реалистом, В. М. Шукшин создает другие образы сельской жизни и другой тип отношений, который так же далек от жизнеустройства русского крестьянина (дедов наших), как и Де Голль’евский Европейский жизненный уклад (общий европейский дом?). Для примера возьмем один из наиболее сильных, для принципиального понимания В. М. Шукшина и его героев, рассказ «Срезал». Но вначале сделаем некоторое отступление.
В. М. Шукшин в творческих поисках первооснов русской духовности[12 - Об этом см. подробнее в книге Е. В. Черносвитова «Пройти по краю. В. М. Шукшин: мысли о жизни, смерти и бессмертии». Изд. 3-е. Ридеро. 2016] уходит в прошлое Руси, которое весьма трудно определить во времени. Здесь также трудно ответить на вопрос – «Когда это было?», как и на вопрос «откуда есть пошла Русь?» Когда царил Лад на нашей земле?
Василий Иванович Белов прекрасно описал такое идеальное жизнеустройство русского крестьянина, о котором в постоянной тоске и душевном поиске проживают жизнь герои Василия Макаровича и, прежде всего, конечно, Степан Разин и Егор Прокудин. Да и многие, многие другие, вплоть до «крепкого мужика» Шурыгина и «вечно недовольного» Яковлева. «И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу». Так пишет Шукшин. Но когда-то, о чем тоскует русская душа, было не только в ней одной, не в пределах нашей духовности, а наяву, на Земле, на нашей Земле? Не является ли Лад некоей конструкцией русского (да и, сугубо ли русского?) сознания, отражающей извечную потребность (витальность, как говорили все те же древние греки) в духовной изначальности? У Николая Рериха мы это находим, как его нравственный императив, как то, что должно быть (хотя бы там, где-то высоко-высоко, далеко-далеко, в вечных и снежных вершинах Гималаев). А. В. Кольцов воспел такую крестьянскую жизнь, радость труда пахаря и общения с родной природой («Не шуми ты, рожь», «Песня пахаря», «Косарь», «Лес» и др.). И когда? Когда на дворе было крепостное право! Кольцовский «Лад» был лишь в душе деревенского жителя. Крепостника и крепостного одновременно? Возможно – как их «витальное» самочувствие, мироощущение[13 - Виктор Горн, литературный критик, алтаец, из обрусевших немцев (sic!) пишет: «Мы можем сказать, что есть основания для разговора «Есенин и Шукшин», разговора о пути, о судьбе. В связи с этим мы обнаружим много самых разных деталей. Шукшин очень любил стихи Есенина, даже подражал ему в юности, о чем можно судить по его стихотворению «И разыгрались же кони в поле»… Вообще Есенин Шукшину наиболее родной, близкий, понятный – в думе и поступке. И его герои часто вспоминают, читают или поют Есенина – «Верую!», «Печки-лавочки», «Калина красная», «До третьих петухов» и др.].
О близости в мироощущении – как тоскует С. А. Есенин о Родине, как он хочет, чтобы на ней воцарил все тот же «Лад»:
«Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла»…
(Виктор Горн. «По какой речке плыть?». Барнаул. 1985).
Творческие поиски Есенина обнаруживают сначала прекрасные образы идиллической деревни, окрашенные мягкими и теплыми тонами православия. Но ни нам, читателям и поклонникам поэта, ни ему самому не найти той необходимой точки опоры, чтобы обрести искомый духовный (не душевный, зависящий от эмоций и повседневных чувствований) покой в силуэтах изб крестьянских и церковных куполов. Есенин идет дальше в своих описках лада изначального и создает «Инонию» – крестьянский, мужицкий рай на Русской земле.
Здесь и «ловит» его В. Ходасевич. Все в том же «Некрополе» он пишет: «… Есенин идет еще дальше: он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приюта, – ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть Инония, – нет. Есть – грубая, жестокая, пошлая «Русь советская», распевающая «агитки Бедного Демьяна». И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от «народа» – была заблуждением.
Позволим себе в этой связи некое ассоциативное отступление.
Наше знакомство с незаконнорожденным сыном С. А. Есенина – Александром Сергеевичем Есениным-Вольпин и его матерью, 90-летней Надеждой Давыдовной Вольпин, состоялось в дни ноябрьских праздников 1990 г. Надежда Давыдовна много рассказывала о Есенине и о том, что она «предчувствовала его самоубийство, увидев его во сне принявшим яд». По этому поводу она даже написала тогда, в 1923 г. стихотворение «Возвращение» («Баллада о вернувшемся»), которое было напечатано в сборнике Ленинградского Союза Поэтов – «Костер» в 1927 г. Вот ее сон: «Кажется, не было в моей жизни ничего страшнее той ночи. Я вижу все так же отчетливо и подробно, как тогда. Как полвека и более тому назад. Не «помню», а именно вижу. Большое полутемное помещение. Больничная палата? Не знаю, я к тому дню еще ни разу в жизни в больнице не лежала, не доводилось и навещать кого-либо в больницах. Не ясен источник света – откуда он, этот полумрак. Широкая прямоугольная колонна уходит к высокому потолку, я сижу на чем-то каменном (но не холодном), припав к колонне левым плечом: сижу в ногах такого же твердого ложа. На ложе, без подушки, неприкрытый и обнаженный (в неподобной наготе) лежит Сергей. Тело тускло-серое, по левому боку вижу проступившие сине-лиловые пятна. Я в тоске и смятении. «Это летаргия. Почему не идут врачи? Два дня! Пролежни. И нужно же кормить. Искусственное питание? Ну, да…
…Ах, надо скорее звать врачей, но как отойти? Еще придут служители, подумают, мертвый – и уволокут в мертвецкую… «Мы пришли забрать тело!»… Жуть…
…Нет, это не смерть. Приведите врачей. И что-то твержу свое – о летаргии, об искусственном питании. И о пролежнях. Мне говорят: «Не видите? Какие еще пролежни. Трупные пятна…» Знаю, но все не верю: да, мертвый, да, трупные пятна…“ Надежда Давыдовна, правда, это свое „предчувствие“ связывает с реальным видом Есенина после возвращения из заграницы, где он был с Дункан („вид его тогда был ходячего мертвеца“). А немного позже, она рассказала мне (М.Ч.), как Есенина обвинили в антисемитизме и судили общественным судом (вместе с поэтами Алексеем Ганиным. Сергеем Клычковым и Петром Орешиным) в доме Печати в 1921 году, где Есенин был „главным ответчиком“. Так вот, его обвинили за то, что, якобы в пивной влепил одному еврею пощечину и назвал его „жидовская морда“. „Сергей оправдывался, – говорит Надежда Давыдовна, – ибо этот еврей начал первый и назвал Есенина «мужиком»… «А для меня „мужик“, – горячо объяснял Есенин, – все равно, как для еврея, если его назвать жидом». И еще, добавила Н. Д. Вольпин, якобы Есенин отказался защищать там на суде, Клычкова, со словами: «Ну его, он русофил»). Вынесла я из этого разговора и то, что Надежда Давыдовна научила Сергея Есенина правильно говорить по-еврейски известное библейское обращение Христа к Богу: «Элои! Элои! Ламма савахфани?» («Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?») (Евангелие от Марка).
Да, у Есенина есть «Сорокоуст» —
«О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!»
Но «сорокоуст» – это и сороковой день усопшего, когда душа освобождается от телесного бремени. Этой заметкой Марины Черносвитовой, пока и закончим есенинскую тему Инонии.
Василий Шукшин видит рай на земле в казацкой вольнице, в жизненном укладе донских казаков. Казачий уклад только и может заменить собой эту громаду, страшную своей безликостью и беспощадностью, порабощающую снаружи и изнутри силу, именуемую ГОСУДАРСТВОМ. Правда, эта идея до конца Шукшиным не додумана. Не смог он реализовать ее в зримых образах, то есть экранно, как предполагал сделать в фильме «Я пришел дать вам волю». Сейчас мы, в ХХI-ом веке, можем увидеть в этой его несбывшейся мечте не только обыденный смысл (помешали, мол), но и глубокий. философский – что-то вроде несбывшейся есенинской Инонии[14 - Не сбылась «Инония» и Ивана Кремнева (А. В. Чаянова). В 1920 «Госиздат» выпустил лишь первую часть «Путешествия моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». По словам «западного» есениноведа и шукшиниста, некогда нашего соотечественника, сбежавшего в молодости на Запад, Евгения Вертлиба, «…это причудливая смесь „избяного рая“ Николая Клюева, некоторых мотивов мистического анархизма Вячеслава Иванова и Чулкова, анархических идей Кропоткина, идиллических картинок в духе руссоизма» (Евгений Вертлиб. «Василий Шукшин и духовное русское возрождение». Effect Publishing, 1990, с. 64).].
Земля, единение с природой, крестьянский уклад – это источники духовной и нравственной силы русского человека. «Россия – Микула Селянинович», – говорит Василий Макарович. А самым большим его желанием, было: «…прорваться в будущую Россию». Вот, если бы «прорвался»?…
Но крестьянская Русь (избяная, деревенчатая, бревенчатая, лесная) с ее укладом – ЛАДом и ДОМОСТРОЕМ… была она и под татаро-монгольским игом (степи), и под игом крепостного права. Подвергалась белому террору в братоубийственной войне. Еще был Колчак и колчаковщина. И слово – «верховный правитель», звучало царским окриком. О «колчаковщине» В.М.Шукшин писал: «Была отчаянная, довольно крепкая попытка оставить «все, как было», в статье «Отдавая роман на суд читателя…», в 1965 г., как реакция на красный террор Троцкого – Тухачевского, для сподвижников которых вместо светлого образа русской избы маячил лик военной казармы… А, во времена «великого застоя», деревня наша стала подвергаться… информационному террору. Написав свой рассказ «Срезал», Шукшин сразу из 1970 года «прорвался» в… ПЕРЕСТРОЙКУ и НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ. Но, не «дотянул» до того времени, когда стали всех обитателей постсоветской России называть «россиянами»! А, было бы, Василию Макаровичу, место в России наших дней?..
Герой Василия Шукшина из «крепких мужиков», Глеб Капустин, с отчаяния говорит: «Пишется Ливерпуль, а читается – Манчестер». Именно в таком положении в настоящее время оказывается уже не сельский житель, а «россиянин», на которого обрушивается денно и нощно лавина информации – печать, радио, телевидение, кино, интернет и… слухи, слухи, слухи. А все о чем? О «земле и воле?»… Нет, сейчас иная тематика, которую трогать мы не будем, чтобы не унесло нас порывами «мусорного ветра» далеко от нашей темы!
Вернемся к Василию Шукшину, в частности, к его «крепкому мужику» Глебу Капустину – «деревенскому краснобаю». С легкой руки критиков от литературы, Глеба Капустина стали называть «злобствующий сельский демагог». Не плохое понятие, если слегка его подправить, для некоторых СМИ! Шукшин характеризовал так своего героя, «крепкого мужика», корреспонденту итальянской газеты «Унита» («Тут, я думаю, разработка темы… «социальной демагогии»… Человек при дележе социальных богатств решил, что он обойден, и вот принялся мстить, положим, ученым… Вторжение сегодняшнего дня в деревню вот в таком выверте неожиданном, где уже вовсе не благостность, не патриархальность никакая. Он напичкан сведениями отовсюду: из газет, радио, телевидения, книг, плохих и хороших, и все у него перемешалось…»). Так-то так, но обратим внимание и на то, что Глеб Капустин стоит в одном ряду с другими крепкими мужиками, где не только Николай Сергеевич Шурыгин, вечно недовольный Борис Яковлев, но и Егор Прокудин и… Степан Разин!
Герои Шукшина – «крепкие мужики» – одного возраста – 40-летние, одной походки, твердой, чуть вразвалочку – не сшибешь, с ястребиным взглядом, зорким и с прищуром
…Образ Глеба Капустина (повторим – герой рассказа «Срезал!), весьма сложен и однозначной интерпретации не поддается даже сейчас, в 2016-ом году! Сам Шукшин в выше приведенном отрывке из его интервью словно защищает своего героя от скоропалительных суждений, начиная словами: «Тут, я думаю, разработка темы…». Василий Макарович выделяет этот рассказ особо – и это нужно подчеркнуть. В рабочих тетрадях у него находится вот такой набросок к этому рассказу: «Поговорили. Приехал в село некий ученый человек, выходец из этого села… К земляку пришли гости. А один пришел «поговорить». И такую ученую сволочную ахинею понес, так заковыристо стал говорить! Ученый растерян, земляки-односельчане с уважением и ужасом слушают идиота, который, впрочем, не такой уж идиот». Глебу Капустину приходится, во-первых, воевать не на своем поле (говорить с учеными их языком и на их «ученые» темы), во-вторых, воевать со своими же, «бывшими», которые сейчас, вроде бы и не свои уже, но и не чужие же? Может быть, это и идиотизм, то, что вытворяет Капустин… Но, как еще защищаться (да и мстить!) крестьянину (среднестатистическому за минус олигархов, «россиянину»? Здесь – своя жизненная позиция, выработанная не одним поколением «рода Капустиных» (и за выживание, и за сохранение чувства собственного достоинства, и, не грех сказать, за сохранение превосходства над всякого рода «отщепенцами»). Да, здесь своя философия.
и совести нашей кровинка —
Весь в красной калине
художник российский лежал.
Когда мы родились
с российской закваской мужицкой,
Нас тянет к природе,
к есенинским чистым стихам.
Нам с ложью не сжиться
в уюте ужей не ужиться,
и сердце, как сокол,
как связанный Разин Степан.
Искусство народно,
когда в нем не сахар обмана,
а солью родимой земли
просолилось навек.
…Мечта Шукшина
о несбывшейся роли Степана
взбугрилась, как Волка, на миг
подо льдом замороженных век».
В этих «гастрономических» стихах нет правды о Шукшине, нет о нем и боле. Хорошо, что «живот» и «жизнь» по-русски – синонимы. Есть в них то, что, перефразируя Шукшина самого, «мясом приросло» к его имени – «мужик», «народ», «Россия», «родная земля». И имя Есенина в этой же спайке.
В неоконченном очерке (статье), написанном в 1967 году по заданию «Правды», В. М. Шукшин теряется в поисках мучительных для него ответов, почему молодежь уходит из современного села? И со свойственной ему способностью додумать думу до конца, он неожиданно пишет: «Ведь, в сущности, распался целый крестьянский род. Сам себе, совсем уж по наивному (или «под наив»), задает вопрос: «А могли бы они снова собраться?» В этом вопросе, скорее, лишь желание Шукшина, чтобы так было, чтобы крестьянская родословная была бы восстановлена самой жизнью[10 - Шукшин искал происхождение своей фамилии среди свода древнерусских имен, прозвищ, фамилий «Ономастикона» академика С. Б. Веселовского и не нашел, чем был очень огорчен. В повести «Я пришел дать вам волю» Василий Макарович так представляет свою родословную: «Ты родом-то откуда? – спрашивает атаман Степан Разин у «патриарха»… «Мы, вишь, коноплю ростили да поместнику свозили. А потом мы же замачивали ее, сушили, мяли, теребили… Ну, веревки вили, канаты…». В этимологическом словаре Б. Федосюка «Русские фамилии» читаем: «Шукша – льняная костра, то есть волокна, остающиеся после трепания и чесания льна. Вероятно, слово применялось и в переносном более широком значении: остаток, излишек. Отсюда прозвище последнего, поздно родившегося ребенка». Перечитайте, что сказано о конопле у Шукшина и у Федосюка… В этом есть и более глубокий смысл, если перенести все на человека. Так фатум шукши, видно, довлел над родом Василия Макаровича.]. В этом его эмоциональное и личностное отношение к процессам, происходящим в деревне. Молодежь уходит… от земли. Это больше, чем покинуть Родину. Эмигрант может вернуться на свою Родину, если не порывает с ней духовно. Тот, кто уходит с земли, в точном смысле этих слов, порывает со своей родословной, меняет свою сущностную ипостась. Конечно, многое в жизни «требует жертв», больших жертв и потерь. Не случайно в этом же году, написав «Монолог на лестнице», Василий Макарович предельно сближает интеллигента с «подвижничеством». Несомненно, есть внутренние мостки между логикой, объясняющей (а, значит, оправдывающей) уход с земли и духовное служение своему народу, как подвиг и жертва. Только таким образом можно оправдать покидающих землю. Но только частично. Это прочувствовал Шукшин на своем собственном жизненном опыте. Он ведь тоже покинул свою «малую Родину», и его, Василия Макаровича Шукшина, «крестьянский род» распался. Совсем незадолго до своей смерти он пишет («Монолог на лестнице»): «Так у меня вышло к сорока года, что я – ни городской до конца, ни деревенский уже». Ни два, ни полтора, – говорят о таком положении в народе. «Ужасно неудобное положение, – поясняет Шукшин. – Это даже – не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке… Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю – упадешь». Здесь идет речь о нравственном неудобстве, а в конечном итоге – о духовности человека, его моральном статусе.
От «Вопросов самому себе» перенесемся, однако, к рассказам Василия Шукшина. Но сразу же подчеркнем, что принципиально согласны со многими авторами (С. Залыгин, В. Распутин, В. Горн и др.), которые не разделяют традиционно В. М. Шукшина, как конкретного человека, личность, его как автора художественного произведения и его литературных героев, ставят смысловые акценты на то, что есть общего между этими тремя ипостасями. В этом мы поддаемся великому соблазну отождествления человека-творца, субъекта творчества и его, так сказать, «продукта». С Есениным, как мы говорил выше, такая логика приводит к трагическому выводу. Все же, думаем, что, играя в своих героев, Шукшин работал все под тот же наив и таким образом «зашифровывался».
Итак, в «Дяде Ермолае» (1971 г.) читаем: «Теперь, много-много лет спустя, когда я бывают дома и прихожу на кладбище помянуть родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай… вич».
Еромлай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю – стою над могилой, думаю. И дума моя о нем – простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка, простая дума». Остановимся на этом месте и вспомним о распавшемся крестьянском роде. А ведь здесь, на кладбище, все тут! Читаем дальше: «Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или – не было никакого смысла, а была работа, работа…». Конечно же, это размышление Василия Макаровича не только об этих, дорогих и хорошо знакомых ему людях. Нет. Это его дума все о том же целом крестьянском роде. Вот поэтому он и «додумать ее не умеет». Дальше он пишет: «Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе (ниже мы поясним, что здесь Шукшин имеет в виду – Е.С., М. Ч.). Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так – не кто умнее, а кто – ближе к Истине. И уже совсем мучительно – до отчаяния и злости – не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так – грамоты ради, и слегка из трусости – величаю ее с заглавной буквы, а не знаю – что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их». Еще раз… «Люблю этих, под холмиками. Уважаю». Это о тех, кто остался с землей, пусть хотя бы таким образом, что остался в своей земле навечно. Это все к тому же, «распавшемуся крестьянском роду», и еще к одному, по-русски проклятому вопросу, почему молодежь уходит из села, и что из этого происходит? Нет, не в бытовом отношении (на этот счет Шукшин говорит определенно и однозначно, когда деревня теряет труженика, город приобретает… «мещанина… существо… беспрерывно, судорожными движениями сокращающееся в сторону «сладкой жизни», или «хама», а, так сказать, в бытийственном смысле. «От сравнений, от всяких «оттуда-сюда» и «отсюда-туда», невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» – о России», – пишет Шукшин в «Монологе на лестнице»). Распадается село? Россия? Громадная общность людей?
Конечно же, речь идет о народности и духовности нашей, когда В. М. Шукшин оперирует понятиями «город», «деревня», «крестьянский род», «земля», «интеллигент». И здесь, попутно скажем, и такими понятиями, как мода и обычай (читай: «Мода – это чисто человеческое „изобретение“, возникло с людьми и с людьми умрет… там, где решаются коренные вопросы бытия, мода молчит», «Обычай не придумаешь, это невозможно»).
В «Слове о «малой родине» (1973 г.) он, в частности, пишет: «Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с Родины (понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину»)[11 - Сейчас, если бы был жив Василий Макарович, он не мог бы обойти проблему покидающих «большую Родину», проблему русской эмиграции, лучшие представители которой, эмигранты первой волны, никогда не порывали духовно с Россией. Бежавшие из СССР – люди широко душевного диапазона. Эмигранты постсоветской России также не однородное «племя». Мы это понимаем прекрасно! Но, все же, вернемся к Василию Шукшину, нашей «системе отсчета» и «шкале ценностей»…] – а таких много, – невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит». Да, здесь точно подмечено, откуда в человеческой душе начинается опустошение. Доведем до логического конца эту мысль Василия Макаровича – «душевное опустошение, бездуховность есть следствие разрыва с «мало родиной». В другом месте, в связи с раскрытием образа Егора Прокудина, он называет это «предательством» («…ушел от корней, ушел от истоков, ушел от матери… И, таким образом, уйдя – предал» («Я родом из деревни»).
Шукшин, касаясь «деревенской» темы, уходит в философские, глубинные основы бытия. Россия, духовность наша, приобретают у него Вселенский смысл. Место и время при этом играют роль второстепенную. Пространственно-временное и событийное оформление многих деревенских рассказов, при внимательном их прочтении, всего лишь мизансцена, на которой вновь и вновь выступают извечные человеческие конфликты… с бытием, богом, совестью и человека с человеком («Лично я старался рассказать про события. Они что? Они с нами происходят каждый день. А сами с собой мы остаемся пореже»).
В рассказе «Хозяин бани и огорода» два деревенских мужика перед субботней баней вдруг начинают говорить о смерти. «Хозяин» затевает этот разговор – его интересует его собственная смерть. Бытовая сторона смерти, похороны описываются в спокойном повествовательном тоне. И до конца рассказа, до самого последнего слова в этом рассказе мы и не догадываемся, что «хозяин» по своему положению в мире давно мертвец. Мертвая душа – все душа. А здесь – мертвое тело, то есть труп (кадавр, как говорили древние греки, четко различая мертвую душу, мертвеца-для-самого-себя, от мертвого тела, мертвеца-для-других). Этот «куркуль» умер давно (а, может быть и на свет появился «мертворожденным»). Он лишь воображает, что жив, ибо не замечает своей «мертвятины». Читатель начинает понимать, что это «мертвая душа» через его собеседника. Но, жив ли тот сам – мы так и не узнаем! Василий Макарович пишет, заканчивая рассказ: «Хозяин бани и огорода засмеялся (о, этот замогильный смех! – Е.С., М. Ч). Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду». А в ограде ведь не жилой и теплый дом, а холодная могила. Телесная смерь, если понимать ее, как понимали древние, не более страшная вещь, чем смерть душевная (смерть-для-себя). Страшна всегда духовная гибель. У этого шукшинского сельского жителя, при таком положении в мире, возможно лишь единственное мироощущение – духовного мертвеца… О, что можно было бы сказать, в этой «шкале ценностей» о современных, «постсоветских мертвецах»?!
Деревни начали умирать при Василии Шукшине вместе с городом. Просто в городе смерть – умирание менее заметное явление, чем в деревне. Ведь деревня до сих пор, даже в ХХI веке, так или иначе ассоциируется в сознании русского человека – с Природой. «Мертвое» же на лоне Природы, хорошо заметно. Город, этот железобетонный механизм, мертв по своей конструкции. Жизнь в нем осуществляется по законам механики («оттуда-сюда» и «отсюда-туда»). Русские города, еще недавно, лет 20—25 назад, были связаны с деревнями и селами – духовной связью. Поэтому все, что происходило там, в городе, происходило, в слегка заретушированном виде, и здесь, в деревне.
В «Слове о «малой родине» В. М. Шукшин пишет: «У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: «Ну, вот это, что ли, и есть та самая жизнь – так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы – это уже тоже, по-своему, несвобода». Мы понимаем, о какой «красивой» жизни и каком самочувствии здесь идет речь – о европейском типе отношений – человека с собой, другим человеком и, следовательно, жизнью. О, безупречной отточенности и выверенности слов и жестов, не требующих для своей реализации эмоциональных затрат. Вряд ли прав Василий Макарович, называя это «несвободой». Нет, это просто другая свобода другой общности людей, объединенных на определенной части Земли – в Европе («Европа – от Парижа до Урала»… Это крылатое высказывание генерала Шарля де Голля, по меньшей мере, звучит двусмысленно). В Европе своя духовность, своя культура. Просто Шукшин был там, в Европе, человеком со стороны и всецело в своей, собственной духовности, символом которой является крестьянская изба, объединяющая вокруг себя целый крестьянский род. Василий Макарович далее пишет: «В доме деда была непринужденность, была свобода полная… Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там».
А еще читаем: «Изба простолюдина – это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками…
Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок – небесному своду, а матица – Млечному Пути». Но это уже не Шукшин, это – Есенин пишет в «Ключах Марии».
В. Ходасевич в своем «Некрополе» обосновывает свое «предчувствие» самоубийства Сергея Есенина, логикой тупика, в котором оказался поэт, идеализируя избяную Русь. Он пишет в заключении: «История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую верил он, не было. Грядущая Инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, – не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевистская революция есть путь к тому, что „больше революции“, а она оказалась путем к последней мерзости – к нэпу (ха-ха – вот сейчас, в постсоветской России, мы видим „свинцовые мерзости жизни“, о которых пророчески говорил А. М. Горький! – Е.С., М.Ч.) … Горе его было в том, что он не сумел назвать ее: он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Руссию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Рассею, пытался принять даже С. С. С.Р., – одно лишь верное имя не пришло ему на уста: Россия». «Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно – умереть».
Вот так – от избы к мечте и, дальше, к… смерти…
И Шукшин, выходит, тоже был за «избяную Русь»? Но зададим и мы себе наивный вопрос: «А можно ли вернуться к нему, такому самочувствию в жизни, которое царило в крестьянских избах?» Ведь, действительно, какой русский человек не тоскует в душе о нем, этом самочувствии, если в душе своей он мужик?! Но, будучи реалистом, В. М. Шукшин создает другие образы сельской жизни и другой тип отношений, который так же далек от жизнеустройства русского крестьянина (дедов наших), как и Де Голль’евский Европейский жизненный уклад (общий европейский дом?). Для примера возьмем один из наиболее сильных, для принципиального понимания В. М. Шукшина и его героев, рассказ «Срезал». Но вначале сделаем некоторое отступление.
В. М. Шукшин в творческих поисках первооснов русской духовности[12 - Об этом см. подробнее в книге Е. В. Черносвитова «Пройти по краю. В. М. Шукшин: мысли о жизни, смерти и бессмертии». Изд. 3-е. Ридеро. 2016] уходит в прошлое Руси, которое весьма трудно определить во времени. Здесь также трудно ответить на вопрос – «Когда это было?», как и на вопрос «откуда есть пошла Русь?» Когда царил Лад на нашей земле?
Василий Иванович Белов прекрасно описал такое идеальное жизнеустройство русского крестьянина, о котором в постоянной тоске и душевном поиске проживают жизнь герои Василия Макаровича и, прежде всего, конечно, Степан Разин и Егор Прокудин. Да и многие, многие другие, вплоть до «крепкого мужика» Шурыгина и «вечно недовольного» Яковлева. «И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу». Так пишет Шукшин. Но когда-то, о чем тоскует русская душа, было не только в ней одной, не в пределах нашей духовности, а наяву, на Земле, на нашей Земле? Не является ли Лад некоей конструкцией русского (да и, сугубо ли русского?) сознания, отражающей извечную потребность (витальность, как говорили все те же древние греки) в духовной изначальности? У Николая Рериха мы это находим, как его нравственный императив, как то, что должно быть (хотя бы там, где-то высоко-высоко, далеко-далеко, в вечных и снежных вершинах Гималаев). А. В. Кольцов воспел такую крестьянскую жизнь, радость труда пахаря и общения с родной природой («Не шуми ты, рожь», «Песня пахаря», «Косарь», «Лес» и др.). И когда? Когда на дворе было крепостное право! Кольцовский «Лад» был лишь в душе деревенского жителя. Крепостника и крепостного одновременно? Возможно – как их «витальное» самочувствие, мироощущение[13 - Виктор Горн, литературный критик, алтаец, из обрусевших немцев (sic!) пишет: «Мы можем сказать, что есть основания для разговора «Есенин и Шукшин», разговора о пути, о судьбе. В связи с этим мы обнаружим много самых разных деталей. Шукшин очень любил стихи Есенина, даже подражал ему в юности, о чем можно судить по его стихотворению «И разыгрались же кони в поле»… Вообще Есенин Шукшину наиболее родной, близкий, понятный – в думе и поступке. И его герои часто вспоминают, читают или поют Есенина – «Верую!», «Печки-лавочки», «Калина красная», «До третьих петухов» и др.].
О близости в мироощущении – как тоскует С. А. Есенин о Родине, как он хочет, чтобы на ней воцарил все тот же «Лад»:
«Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла»…
(Виктор Горн. «По какой речке плыть?». Барнаул. 1985).
Творческие поиски Есенина обнаруживают сначала прекрасные образы идиллической деревни, окрашенные мягкими и теплыми тонами православия. Но ни нам, читателям и поклонникам поэта, ни ему самому не найти той необходимой точки опоры, чтобы обрести искомый духовный (не душевный, зависящий от эмоций и повседневных чувствований) покой в силуэтах изб крестьянских и церковных куполов. Есенин идет дальше в своих описках лада изначального и создает «Инонию» – крестьянский, мужицкий рай на Русской земле.
Здесь и «ловит» его В. Ходасевич. Все в том же «Некрополе» он пишет: «… Есенин идет еще дальше: он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приюта, – ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть Инония, – нет. Есть – грубая, жестокая, пошлая «Русь советская», распевающая «агитки Бедного Демьяна». И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от «народа» – была заблуждением.
Позволим себе в этой связи некое ассоциативное отступление.
Наше знакомство с незаконнорожденным сыном С. А. Есенина – Александром Сергеевичем Есениным-Вольпин и его матерью, 90-летней Надеждой Давыдовной Вольпин, состоялось в дни ноябрьских праздников 1990 г. Надежда Давыдовна много рассказывала о Есенине и о том, что она «предчувствовала его самоубийство, увидев его во сне принявшим яд». По этому поводу она даже написала тогда, в 1923 г. стихотворение «Возвращение» («Баллада о вернувшемся»), которое было напечатано в сборнике Ленинградского Союза Поэтов – «Костер» в 1927 г. Вот ее сон: «Кажется, не было в моей жизни ничего страшнее той ночи. Я вижу все так же отчетливо и подробно, как тогда. Как полвека и более тому назад. Не «помню», а именно вижу. Большое полутемное помещение. Больничная палата? Не знаю, я к тому дню еще ни разу в жизни в больнице не лежала, не доводилось и навещать кого-либо в больницах. Не ясен источник света – откуда он, этот полумрак. Широкая прямоугольная колонна уходит к высокому потолку, я сижу на чем-то каменном (но не холодном), припав к колонне левым плечом: сижу в ногах такого же твердого ложа. На ложе, без подушки, неприкрытый и обнаженный (в неподобной наготе) лежит Сергей. Тело тускло-серое, по левому боку вижу проступившие сине-лиловые пятна. Я в тоске и смятении. «Это летаргия. Почему не идут врачи? Два дня! Пролежни. И нужно же кормить. Искусственное питание? Ну, да…
…Ах, надо скорее звать врачей, но как отойти? Еще придут служители, подумают, мертвый – и уволокут в мертвецкую… «Мы пришли забрать тело!»… Жуть…
…Нет, это не смерть. Приведите врачей. И что-то твержу свое – о летаргии, об искусственном питании. И о пролежнях. Мне говорят: «Не видите? Какие еще пролежни. Трупные пятна…» Знаю, но все не верю: да, мертвый, да, трупные пятна…“ Надежда Давыдовна, правда, это свое „предчувствие“ связывает с реальным видом Есенина после возвращения из заграницы, где он был с Дункан („вид его тогда был ходячего мертвеца“). А немного позже, она рассказала мне (М.Ч.), как Есенина обвинили в антисемитизме и судили общественным судом (вместе с поэтами Алексеем Ганиным. Сергеем Клычковым и Петром Орешиным) в доме Печати в 1921 году, где Есенин был „главным ответчиком“. Так вот, его обвинили за то, что, якобы в пивной влепил одному еврею пощечину и назвал его „жидовская морда“. „Сергей оправдывался, – говорит Надежда Давыдовна, – ибо этот еврей начал первый и назвал Есенина «мужиком»… «А для меня „мужик“, – горячо объяснял Есенин, – все равно, как для еврея, если его назвать жидом». И еще, добавила Н. Д. Вольпин, якобы Есенин отказался защищать там на суде, Клычкова, со словами: «Ну его, он русофил»). Вынесла я из этого разговора и то, что Надежда Давыдовна научила Сергея Есенина правильно говорить по-еврейски известное библейское обращение Христа к Богу: «Элои! Элои! Ламма савахфани?» («Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?») (Евангелие от Марка).
Да, у Есенина есть «Сорокоуст» —
«О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!»
Но «сорокоуст» – это и сороковой день усопшего, когда душа освобождается от телесного бремени. Этой заметкой Марины Черносвитовой, пока и закончим есенинскую тему Инонии.
Василий Шукшин видит рай на земле в казацкой вольнице, в жизненном укладе донских казаков. Казачий уклад только и может заменить собой эту громаду, страшную своей безликостью и беспощадностью, порабощающую снаружи и изнутри силу, именуемую ГОСУДАРСТВОМ. Правда, эта идея до конца Шукшиным не додумана. Не смог он реализовать ее в зримых образах, то есть экранно, как предполагал сделать в фильме «Я пришел дать вам волю». Сейчас мы, в ХХI-ом веке, можем увидеть в этой его несбывшейся мечте не только обыденный смысл (помешали, мол), но и глубокий. философский – что-то вроде несбывшейся есенинской Инонии[14 - Не сбылась «Инония» и Ивана Кремнева (А. В. Чаянова). В 1920 «Госиздат» выпустил лишь первую часть «Путешествия моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». По словам «западного» есениноведа и шукшиниста, некогда нашего соотечественника, сбежавшего в молодости на Запад, Евгения Вертлиба, «…это причудливая смесь „избяного рая“ Николая Клюева, некоторых мотивов мистического анархизма Вячеслава Иванова и Чулкова, анархических идей Кропоткина, идиллических картинок в духе руссоизма» (Евгений Вертлиб. «Василий Шукшин и духовное русское возрождение». Effect Publishing, 1990, с. 64).].
Земля, единение с природой, крестьянский уклад – это источники духовной и нравственной силы русского человека. «Россия – Микула Селянинович», – говорит Василий Макарович. А самым большим его желанием, было: «…прорваться в будущую Россию». Вот, если бы «прорвался»?…
Но крестьянская Русь (избяная, деревенчатая, бревенчатая, лесная) с ее укладом – ЛАДом и ДОМОСТРОЕМ… была она и под татаро-монгольским игом (степи), и под игом крепостного права. Подвергалась белому террору в братоубийственной войне. Еще был Колчак и колчаковщина. И слово – «верховный правитель», звучало царским окриком. О «колчаковщине» В.М.Шукшин писал: «Была отчаянная, довольно крепкая попытка оставить «все, как было», в статье «Отдавая роман на суд читателя…», в 1965 г., как реакция на красный террор Троцкого – Тухачевского, для сподвижников которых вместо светлого образа русской избы маячил лик военной казармы… А, во времена «великого застоя», деревня наша стала подвергаться… информационному террору. Написав свой рассказ «Срезал», Шукшин сразу из 1970 года «прорвался» в… ПЕРЕСТРОЙКУ и НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ. Но, не «дотянул» до того времени, когда стали всех обитателей постсоветской России называть «россиянами»! А, было бы, Василию Макаровичу, место в России наших дней?..
Герой Василия Шукшина из «крепких мужиков», Глеб Капустин, с отчаяния говорит: «Пишется Ливерпуль, а читается – Манчестер». Именно в таком положении в настоящее время оказывается уже не сельский житель, а «россиянин», на которого обрушивается денно и нощно лавина информации – печать, радио, телевидение, кино, интернет и… слухи, слухи, слухи. А все о чем? О «земле и воле?»… Нет, сейчас иная тематика, которую трогать мы не будем, чтобы не унесло нас порывами «мусорного ветра» далеко от нашей темы!
Вернемся к Василию Шукшину, в частности, к его «крепкому мужику» Глебу Капустину – «деревенскому краснобаю». С легкой руки критиков от литературы, Глеба Капустина стали называть «злобствующий сельский демагог». Не плохое понятие, если слегка его подправить, для некоторых СМИ! Шукшин характеризовал так своего героя, «крепкого мужика», корреспонденту итальянской газеты «Унита» («Тут, я думаю, разработка темы… «социальной демагогии»… Человек при дележе социальных богатств решил, что он обойден, и вот принялся мстить, положим, ученым… Вторжение сегодняшнего дня в деревню вот в таком выверте неожиданном, где уже вовсе не благостность, не патриархальность никакая. Он напичкан сведениями отовсюду: из газет, радио, телевидения, книг, плохих и хороших, и все у него перемешалось…»). Так-то так, но обратим внимание и на то, что Глеб Капустин стоит в одном ряду с другими крепкими мужиками, где не только Николай Сергеевич Шурыгин, вечно недовольный Борис Яковлев, но и Егор Прокудин и… Степан Разин!
Герои Шукшина – «крепкие мужики» – одного возраста – 40-летние, одной походки, твердой, чуть вразвалочку – не сшибешь, с ястребиным взглядом, зорким и с прищуром
…Образ Глеба Капустина (повторим – герой рассказа «Срезал!), весьма сложен и однозначной интерпретации не поддается даже сейчас, в 2016-ом году! Сам Шукшин в выше приведенном отрывке из его интервью словно защищает своего героя от скоропалительных суждений, начиная словами: «Тут, я думаю, разработка темы…». Василий Макарович выделяет этот рассказ особо – и это нужно подчеркнуть. В рабочих тетрадях у него находится вот такой набросок к этому рассказу: «Поговорили. Приехал в село некий ученый человек, выходец из этого села… К земляку пришли гости. А один пришел «поговорить». И такую ученую сволочную ахинею понес, так заковыристо стал говорить! Ученый растерян, земляки-односельчане с уважением и ужасом слушают идиота, который, впрочем, не такой уж идиот». Глебу Капустину приходится, во-первых, воевать не на своем поле (говорить с учеными их языком и на их «ученые» темы), во-вторых, воевать со своими же, «бывшими», которые сейчас, вроде бы и не свои уже, но и не чужие же? Может быть, это и идиотизм, то, что вытворяет Капустин… Но, как еще защищаться (да и мстить!) крестьянину (среднестатистическому за минус олигархов, «россиянину»? Здесь – своя жизненная позиция, выработанная не одним поколением «рода Капустиных» (и за выживание, и за сохранение чувства собственного достоинства, и, не грех сказать, за сохранение превосходства над всякого рода «отщепенцами»). Да, здесь своя философия.