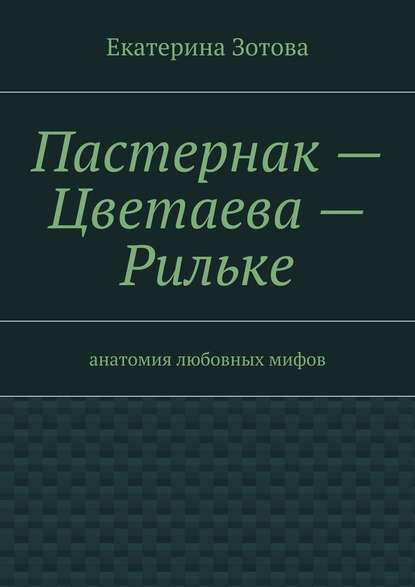По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пастернак – Цветаева – Рильке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ответ Бориса Леонидовича, снова запоздавший на пару месяцев, был явно «не про то». Большую его часть занимает восторженный анализ присланной ему Цветаевой поэмы «Царь Девица». А в конце – странная приписка:
«Это письмо лежит у меня более месяца. <…> Вероятно, в заключенье мне хотелось, как говорится, вывернуть перед Вами свою душу, а это, по счастью, никогда не удается. <…> Тяжело мне, ах как тяжело. И ведь бо?льшая часть моей жизни прошла так, и кажется, – нет, зачем же так, лучше прямо сказать: – и вижу, так пройдет вся остальная» (ЦП, 29).
Цветаева поймет эти строки как намек на сомнения в творческих силах, о которых Пастернак упоминал в предыдущем письме, и примется горячо убеждать его в обратном. Одно за другим она пишет два больших письма (второе посвящено впечатлениям от только что вышедшей и присланной ей книги «Темы и вариации»).
«Пастернак!
Вы первый поэт, которого я – за жизнь – вижу, – так начинается первое из них. – Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше его самого, хотя больше всех остальных“ (ЦП, 33). А дальше следует почти любовное признание: „Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе – далеко! И было одно место – фонарный столб – без света, сюда я вызывала Вас. – «Пастернак!» И долгие беседы бок-о?-бок – бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ (единственное место в России, где я мыслю Goethe!)» (ЦП, 35).
Марина Ивановна предельно искренна, она дотошно фиксирует каждое изменение чувства. Вот ей кажется, что наваждение спало. («Рассказываю, потому что прошло». ) И тут же – обратное утверждение: «И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми „косыми ливнями“ – это будет: мой вызов, Ваш приход» (ЦП, 35). В черновике этих строк нет, зато после «все прошло» следует еще более красноречивое: «Нет, впрочем, лгу!» (ЦП, 31)…
Итак, Цветаева-поэт продолжает уверенно творить свой миф о Пастернаке, поскольку на собственном опыте изучила силу парадоксальной реальности фантазий. Более того, стремится убедить его в том, что все, сказанное ею, – правда. И действительно, она с поразительной точностью угадывает основополагающие черты творческой личности Бориса Леонидовича. Например, такую: «…Ваша страсть к словам – только доказательство, насколько они для Вас средство. Страсть эта – отчаяние сказать» (ЦП, 39). Откуда ей знать, что над проблемой точного выражения своего понимания мира он бился с ранней юности и будет биться до последнего дня?.. Еще одна догадка:
«А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь» (ЦП, 40).
Чем не формула «Доктора Живаго», до начала работы над которым еще двадцать с лишним лет? Впрочем, есть и более близкие по времени доказательства цветаевской прозорливости. В начале 1923 года в Берлине Пастернак пытается продолжить повесть «Детство Люверс», а затем, до начала 30-х годов, напишет три поэмы, роман в стихах «Спекторский» и автобиографическую прозу «Охранная грамота».
Для этой Цветаевой встреча с Пастернаком действительно – «сшибка лбами». Но есть еще и Цветаева-человек, прекрасно знающая, каким обманчивым может быть воображение. Ей нужно не только внимание бесплотной тени, но и понимание живого человека. Хочется, в конце концов, «просто рукопожатия» (ЦП, 37). А между тем, Марина Ивановна практически ничего не знает о Пастернаке. (В черновике гадает: «Сколько Вам лет? <…> 27?» (ЦП, 33). В день, когда писалось это письмо, Борису Леонидовичу исполнилось 33 года…) Она признается: «Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, не мыслится мне оно, слишком похоже на сон по той беззаветности (освежите первичность слова!), по той несомненности, по той слепоте, которая у меня к Вам» (ЦП, 37). Стремлением убедиться в реальности своего корреспондента объясняется и просьба о Библии, и еще одно странное желание:
«„Так начинаются цыгане“ – посвятите эти стихи мне. (Мысленно.) Подарите. Чтобы я знала, что они мои. Чтобы никто не смел думать, что они его» (ЦП, 36).
Такое можно попросить только от отчаянного одиночества…
Однако Пастернак, сам начавший переписку с ошеломляющих признаний, явно откладывал объяснение до личной встречи. Правда, отозвался быстро, но – открыткой с осторожным увещеванием:
«Хотя бы даже из одного любопытства только, не ждите от меня немедленного ответа на письма, потому что, будучи без сравненья ниже Вас и Ваших представлений, я не принадлежу сейчас, как мне бы того хотелось, – ни Вам, ни им» (ЦП, 43—44).
Марину Ивановну такой ответ явно озадачил. В тетради появляются вопросы: «Любезность или нежелание огорчить? Робость <вариант: глухота> – или нежелание принять?» И несколькими строками ниже – чеканная формула: «Отношение к Вам я считаю срывом, – м.б. и ввысь. (Вряд ли.)» (ЦП, 44).
Неизвестно, узнал ли об этих сомнениях Пастернак. Однако 6 марта он пишет ей письмо, главный смысл которого (для Цветаевой) был заключен в первых фразах:
«Мы уезжаем 18 марта. В мае 1925 года я увижу Вас в Веймаре, даже и в том случае, если мы свидимся с Вами на днях» (ЦП, 44).
Видимо, почти не надеясь на встречу в Берлине, в этом письме Борис Леонидович осторожно проясняет свое отношение и к самой Цветаевой, и к созданному ею мифу. Он утверждает, что цветаевские «догадки» свидетельствуют вовсе не о нем, «как, за всеми поправками, Вам все-таки угодно думать, – о, далеко нет, но о том родном и редкостном мире, которым Вы облюбованы, вероятно, не в пример больше моего и которого Вы коснулись родною рукой, родным, кровно знакомым движеньем» (ЦП, 45). Иначе говоря, он видит в портрете, созданном Цветаевой, близкий обоим идеал поэта. Отсюда естественно вытекает следующее за этими словами требование:
«Темы „первый поэт за жизнь“, „Пастернак“ и пр. я навсегда хотел бы устранить из нашей переписки. <…> Будьте же милостивее впредь. Ведь читать это – больно» (ЦП, 45).
А в конце письма так же осторожно Пастернак дает понять, насколько дорога стала ему Цветаева после последних «больших» писем. «Дорогая Марина Ивановна, – пишет он, – будемте действительно оба, всерьез и надолго, тем, чем мы за эти две недели стали, друг другу этого не называя» (ЦП, 45).
Причину его сдержанности Цветаева скоро узнает. Само же письмо стало для нее одновременно признанием и приговором.
«…Я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки. (Пишу Вам в веселой предсмертной лихорадке.) Теперь знаю, но поздно» (ЦП, 49).
В последней фразе – суть драмы: для поездки в Берлин требовалась виза, получить ее за оставшиеся дни Марина Ивановна не могла…
Возможно, только после этого письма Цветаева поняла, как важна была для нее, заброшенной судьбой в чешское захолустье, эта встреча с нечаянно обретенным единомышленником. Теперь все ее помыслы обращены к обещанному свиданию в Веймаре.
«А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. <…> …ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью)» (ЦП, 50).
Видимо, задетая осторожным утверждением Пастернака о том, что ее «горячность» направлена «не по принадлежности», Цветаева пытается определить суть своего чувства к нему – и приходит к неожиданному признанию:
«Я честна и ясна, сло?ва – клянусь! – для этого не знаю. (Перепробую все!) … Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, законным, – Вам ясно? Выдохом! Я бы (от Вас же!) выдышалась в Вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: чувства, уже исключающие понятие меры!» (ЦП, 50).
Марина Ивановна знала, о чем говорит. Впрочем, знала не только она, но и многие близкие ей люди. Пожалуй, наиболее точно алгоритм ее чувств описал Сергей Яковлевич Эфрон в письме Максимилиану Волошину, написанном в декабре 1923 года.
«М <арина> – человек страстей. Гораздо в большей мере чем раньше – до моего отъезда (в армию, – Е.З.). Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда (теперь так же как и раньше), вернее всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, М <арина> предается ураганному же отчаянию. Состояние, при к <отор> ом появление нового возбудителя облегчается. Что – не важно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все при зорком, холодном (пожалуй вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу».
Здесь верно все, кроме первой фразы. Причиной такого поведения была не столько «страстность», сколько сознательное подчинение всей жизни интересам Поэзии, творчества. (Недаром в конце появляется «книга»! ) В том же письме Пастернаку Марина Ивановна роняет многозначительное признание.
«Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом – благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь – только перо!» (ЦП, 51).
(В доказательство своих слов она приложила к письму 10 стихотворений, написанных в середине февраля.)
Конечно же, эти слова относится не только к Пастернаку. Большинство лучших стихотворений Цветаевой – обращения к возлюбленным или детям. Да и насчет «когда-нибудь сделаться большим поэтом» Марина Ивановна явно лукавит. Однако источник вдохновения – несказа?нность чувства – назвала абсолютно точно. Как, впрочем, и потребность «выдышаться» в Пастернака – близкое знакомство с героями своих романов, как правило, действовало на Цветаеву отрезвляюще.
На это письмо Борис Леонидович ответил почти мгновенно – 20 марта, накануне отъезда из Германии. Зная, что встречи не будет, он наконец-то решился раскрыть перед корреспонденткой всю сложность своего положения – сложность, невольно вызванную письмами Цветаевой:
«Пройдет время, которое не будет принадлежать ни мне, ни Вам, пока станет ясно моей милой, терзающейся жене, что мои слова о себе и о Вас не лживы, не подложны и не ребячливо-простодушны. Пока она увидит, что та высокая и взаимно возвышающая дружба, о которой я говорил ей со всей горячностью, действительно горяча и действительно дружба, и ни в чем не встречаясь с этой жизнью, ее знает и ее любит издали, и ей зла не желает, и во всем с ней разминаясь и ничем ей не угрожая, разминовеньем этим ей никакой обиды не наносит» (ЦП, 62).
Ситуация, в общем-то, банальна: молодая жена, к тому же, ждущая ребенка (об этом Пастернак тоже сообщает в письме), ревнует мужа к его корреспондентке. Ревнует, с бытовой точки зрения, вполне обоснованно – письма Цветаевой (и, видимо, не только они) дают к тому множество поводов. Вообще кажется странным, что Борис Леонидович не скрыл от жены хотя бы часть переписки. Однако для него, впервые и очень серьезно строящего семейную жизнь, самая невинная «ложь во спасение» была недопустима. Перед глазами был пример – образцовый брак родителей, основанный (по крайней мере, в восприятии детей) на безусловном доверии и взаимном уважении. Вот только в собственной семье наладить доверительные отношения не очень получалось…
Пастернак искренне верит в то, что чувства, которые испытывают он и Цветаева, всецело относятся к духовной сфере, и ревность жены – не более чем недоразумение. Сразу после приведенных строк он пишет:
«Это роковая незадача, что мы не встретились втроем… Я уверен, она полюбила бы Вас так же, как Ваши книги, в восхищеньи которыми мы с нею сходимся без тягостностей и недоразумений» (ЦП, 62—63).
Он несколько раз называет Цветаеву сестрой, словно стремясь внушить ей свое понимание их отношений, а ближе к концу, признавшись, что пишет тайком от жены, прибавляет: «Этот один обман да простится всем нам троим, – он невольный, дальше поднимемся, другого никогда не будет» (ЦП, 64). Вот уж где бездна «ребячливости»…
Впрочем, и сам Борис Леонидович, видимо, чувствовал, что выдает желаемое за действительное. Иначе зачем он «благодарит Бога», что не встретил ее летом семнадцатого года. «А то бы я только влюбился в Вас» (ЦП, 64). Значит, влюбленность – есть?..
Пастернак просил Цветаеву не посылать ему писем, пока он не напишет из Москвы. В черновых тетрадях Марины Ивановны исследователи вычленили ряд фрагментов, написанных в ответ на это письмо, но были ли они отосланы адресату – неизвестно…
С оглядкой в будущее (1924 – май 1925)
Переписка прервалась на год. За это время в жизни обоих произошли серьезные события.
Пастернак усиленно занимался обеспечением прожиточного минимума выросшей семьи – в сентябре 1923 года у него родился сын Евгений. Дело оказалось непростым, одно время (правда, несколько позже) пришлось заниматься даже сбором библиографии о Ленине. Вспоминая об этом, во «Вступлении» к роману «Спекторский» он иронично напишет:
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.
Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.
Цветаева же во второй половине 1923 года пережила, пожалуй, самое сильное из своих «сбывшихся» увлечений. Ее возлюбленным стал товарищ мужа по первым годам эмиграции Константин Родзевич. Чувство было взаимным. Может быть, впервые Марина Ивановна почувствовала себя счастливой – без забот, страхов и волнений за любимого. Родзевич даже предложил ей стать его женой, но… Но дальше произошло то, что происходило всегда (исключением был только Сергей Эфрон). Счастливый влюбленный не смог, как говорила в подобных случаях сама Цветаева, «вместить в себя» возлюбленную во всей ее сложности (проще говоря, соответствовать созданному ею образу), хотя бережно и целомудренно хранил память о ней всю свою долгую жизнь. Страдая сама и мучая Сергея Яковлевича (именно в этот период он написал процитированное выше письмо), Марина Ивановна металась между мужем и Родзевичем и в конце концов осталась в семье. Вскоре пережитое чувство «аукнулось» двумя шедеврами – «Поэмой Горы» и «Поэмой Конца».
«Это письмо лежит у меня более месяца. <…> Вероятно, в заключенье мне хотелось, как говорится, вывернуть перед Вами свою душу, а это, по счастью, никогда не удается. <…> Тяжело мне, ах как тяжело. И ведь бо?льшая часть моей жизни прошла так, и кажется, – нет, зачем же так, лучше прямо сказать: – и вижу, так пройдет вся остальная» (ЦП, 29).
Цветаева поймет эти строки как намек на сомнения в творческих силах, о которых Пастернак упоминал в предыдущем письме, и примется горячо убеждать его в обратном. Одно за другим она пишет два больших письма (второе посвящено впечатлениям от только что вышедшей и присланной ей книги «Темы и вариации»).
«Пастернак!
Вы первый поэт, которого я – за жизнь – вижу, – так начинается первое из них. – Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше его самого, хотя больше всех остальных“ (ЦП, 33). А дальше следует почти любовное признание: „Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе – далеко! И было одно место – фонарный столб – без света, сюда я вызывала Вас. – «Пастернак!» И долгие беседы бок-о?-бок – бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ (единственное место в России, где я мыслю Goethe!)» (ЦП, 35).
Марина Ивановна предельно искренна, она дотошно фиксирует каждое изменение чувства. Вот ей кажется, что наваждение спало. («Рассказываю, потому что прошло». ) И тут же – обратное утверждение: «И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми „косыми ливнями“ – это будет: мой вызов, Ваш приход» (ЦП, 35). В черновике этих строк нет, зато после «все прошло» следует еще более красноречивое: «Нет, впрочем, лгу!» (ЦП, 31)…
Итак, Цветаева-поэт продолжает уверенно творить свой миф о Пастернаке, поскольку на собственном опыте изучила силу парадоксальной реальности фантазий. Более того, стремится убедить его в том, что все, сказанное ею, – правда. И действительно, она с поразительной точностью угадывает основополагающие черты творческой личности Бориса Леонидовича. Например, такую: «…Ваша страсть к словам – только доказательство, насколько они для Вас средство. Страсть эта – отчаяние сказать» (ЦП, 39). Откуда ей знать, что над проблемой точного выражения своего понимания мира он бился с ранней юности и будет биться до последнего дня?.. Еще одна догадка:
«А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь» (ЦП, 40).
Чем не формула «Доктора Живаго», до начала работы над которым еще двадцать с лишним лет? Впрочем, есть и более близкие по времени доказательства цветаевской прозорливости. В начале 1923 года в Берлине Пастернак пытается продолжить повесть «Детство Люверс», а затем, до начала 30-х годов, напишет три поэмы, роман в стихах «Спекторский» и автобиографическую прозу «Охранная грамота».
Для этой Цветаевой встреча с Пастернаком действительно – «сшибка лбами». Но есть еще и Цветаева-человек, прекрасно знающая, каким обманчивым может быть воображение. Ей нужно не только внимание бесплотной тени, но и понимание живого человека. Хочется, в конце концов, «просто рукопожатия» (ЦП, 37). А между тем, Марина Ивановна практически ничего не знает о Пастернаке. (В черновике гадает: «Сколько Вам лет? <…> 27?» (ЦП, 33). В день, когда писалось это письмо, Борису Леонидовичу исполнилось 33 года…) Она признается: «Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, не мыслится мне оно, слишком похоже на сон по той беззаветности (освежите первичность слова!), по той несомненности, по той слепоте, которая у меня к Вам» (ЦП, 37). Стремлением убедиться в реальности своего корреспондента объясняется и просьба о Библии, и еще одно странное желание:
«„Так начинаются цыгане“ – посвятите эти стихи мне. (Мысленно.) Подарите. Чтобы я знала, что они мои. Чтобы никто не смел думать, что они его» (ЦП, 36).
Такое можно попросить только от отчаянного одиночества…
Однако Пастернак, сам начавший переписку с ошеломляющих признаний, явно откладывал объяснение до личной встречи. Правда, отозвался быстро, но – открыткой с осторожным увещеванием:
«Хотя бы даже из одного любопытства только, не ждите от меня немедленного ответа на письма, потому что, будучи без сравненья ниже Вас и Ваших представлений, я не принадлежу сейчас, как мне бы того хотелось, – ни Вам, ни им» (ЦП, 43—44).
Марину Ивановну такой ответ явно озадачил. В тетради появляются вопросы: «Любезность или нежелание огорчить? Робость <вариант: глухота> – или нежелание принять?» И несколькими строками ниже – чеканная формула: «Отношение к Вам я считаю срывом, – м.б. и ввысь. (Вряд ли.)» (ЦП, 44).
Неизвестно, узнал ли об этих сомнениях Пастернак. Однако 6 марта он пишет ей письмо, главный смысл которого (для Цветаевой) был заключен в первых фразах:
«Мы уезжаем 18 марта. В мае 1925 года я увижу Вас в Веймаре, даже и в том случае, если мы свидимся с Вами на днях» (ЦП, 44).
Видимо, почти не надеясь на встречу в Берлине, в этом письме Борис Леонидович осторожно проясняет свое отношение и к самой Цветаевой, и к созданному ею мифу. Он утверждает, что цветаевские «догадки» свидетельствуют вовсе не о нем, «как, за всеми поправками, Вам все-таки угодно думать, – о, далеко нет, но о том родном и редкостном мире, которым Вы облюбованы, вероятно, не в пример больше моего и которого Вы коснулись родною рукой, родным, кровно знакомым движеньем» (ЦП, 45). Иначе говоря, он видит в портрете, созданном Цветаевой, близкий обоим идеал поэта. Отсюда естественно вытекает следующее за этими словами требование:
«Темы „первый поэт за жизнь“, „Пастернак“ и пр. я навсегда хотел бы устранить из нашей переписки. <…> Будьте же милостивее впредь. Ведь читать это – больно» (ЦП, 45).
А в конце письма так же осторожно Пастернак дает понять, насколько дорога стала ему Цветаева после последних «больших» писем. «Дорогая Марина Ивановна, – пишет он, – будемте действительно оба, всерьез и надолго, тем, чем мы за эти две недели стали, друг другу этого не называя» (ЦП, 45).
Причину его сдержанности Цветаева скоро узнает. Само же письмо стало для нее одновременно признанием и приговором.
«…Я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки. (Пишу Вам в веселой предсмертной лихорадке.) Теперь знаю, но поздно» (ЦП, 49).
В последней фразе – суть драмы: для поездки в Берлин требовалась виза, получить ее за оставшиеся дни Марина Ивановна не могла…
Возможно, только после этого письма Цветаева поняла, как важна была для нее, заброшенной судьбой в чешское захолустье, эта встреча с нечаянно обретенным единомышленником. Теперь все ее помыслы обращены к обещанному свиданию в Веймаре.
«А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. <…> …ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью)» (ЦП, 50).
Видимо, задетая осторожным утверждением Пастернака о том, что ее «горячность» направлена «не по принадлежности», Цветаева пытается определить суть своего чувства к нему – и приходит к неожиданному признанию:
«Я честна и ясна, сло?ва – клянусь! – для этого не знаю. (Перепробую все!) … Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, законным, – Вам ясно? Выдохом! Я бы (от Вас же!) выдышалась в Вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: чувства, уже исключающие понятие меры!» (ЦП, 50).
Марина Ивановна знала, о чем говорит. Впрочем, знала не только она, но и многие близкие ей люди. Пожалуй, наиболее точно алгоритм ее чувств описал Сергей Яковлевич Эфрон в письме Максимилиану Волошину, написанном в декабре 1923 года.
«М <арина> – человек страстей. Гораздо в большей мере чем раньше – до моего отъезда (в армию, – Е.З.). Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда (теперь так же как и раньше), вернее всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, М <арина> предается ураганному же отчаянию. Состояние, при к <отор> ом появление нового возбудителя облегчается. Что – не важно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все при зорком, холодном (пожалуй вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу».
Здесь верно все, кроме первой фразы. Причиной такого поведения была не столько «страстность», сколько сознательное подчинение всей жизни интересам Поэзии, творчества. (Недаром в конце появляется «книга»! ) В том же письме Пастернаку Марина Ивановна роняет многозначительное признание.
«Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом – благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь – только перо!» (ЦП, 51).
(В доказательство своих слов она приложила к письму 10 стихотворений, написанных в середине февраля.)
Конечно же, эти слова относится не только к Пастернаку. Большинство лучших стихотворений Цветаевой – обращения к возлюбленным или детям. Да и насчет «когда-нибудь сделаться большим поэтом» Марина Ивановна явно лукавит. Однако источник вдохновения – несказа?нность чувства – назвала абсолютно точно. Как, впрочем, и потребность «выдышаться» в Пастернака – близкое знакомство с героями своих романов, как правило, действовало на Цветаеву отрезвляюще.
На это письмо Борис Леонидович ответил почти мгновенно – 20 марта, накануне отъезда из Германии. Зная, что встречи не будет, он наконец-то решился раскрыть перед корреспонденткой всю сложность своего положения – сложность, невольно вызванную письмами Цветаевой:
«Пройдет время, которое не будет принадлежать ни мне, ни Вам, пока станет ясно моей милой, терзающейся жене, что мои слова о себе и о Вас не лживы, не подложны и не ребячливо-простодушны. Пока она увидит, что та высокая и взаимно возвышающая дружба, о которой я говорил ей со всей горячностью, действительно горяча и действительно дружба, и ни в чем не встречаясь с этой жизнью, ее знает и ее любит издали, и ей зла не желает, и во всем с ней разминаясь и ничем ей не угрожая, разминовеньем этим ей никакой обиды не наносит» (ЦП, 62).
Ситуация, в общем-то, банальна: молодая жена, к тому же, ждущая ребенка (об этом Пастернак тоже сообщает в письме), ревнует мужа к его корреспондентке. Ревнует, с бытовой точки зрения, вполне обоснованно – письма Цветаевой (и, видимо, не только они) дают к тому множество поводов. Вообще кажется странным, что Борис Леонидович не скрыл от жены хотя бы часть переписки. Однако для него, впервые и очень серьезно строящего семейную жизнь, самая невинная «ложь во спасение» была недопустима. Перед глазами был пример – образцовый брак родителей, основанный (по крайней мере, в восприятии детей) на безусловном доверии и взаимном уважении. Вот только в собственной семье наладить доверительные отношения не очень получалось…
Пастернак искренне верит в то, что чувства, которые испытывают он и Цветаева, всецело относятся к духовной сфере, и ревность жены – не более чем недоразумение. Сразу после приведенных строк он пишет:
«Это роковая незадача, что мы не встретились втроем… Я уверен, она полюбила бы Вас так же, как Ваши книги, в восхищеньи которыми мы с нею сходимся без тягостностей и недоразумений» (ЦП, 62—63).
Он несколько раз называет Цветаеву сестрой, словно стремясь внушить ей свое понимание их отношений, а ближе к концу, признавшись, что пишет тайком от жены, прибавляет: «Этот один обман да простится всем нам троим, – он невольный, дальше поднимемся, другого никогда не будет» (ЦП, 64). Вот уж где бездна «ребячливости»…
Впрочем, и сам Борис Леонидович, видимо, чувствовал, что выдает желаемое за действительное. Иначе зачем он «благодарит Бога», что не встретил ее летом семнадцатого года. «А то бы я только влюбился в Вас» (ЦП, 64). Значит, влюбленность – есть?..
Пастернак просил Цветаеву не посылать ему писем, пока он не напишет из Москвы. В черновых тетрадях Марины Ивановны исследователи вычленили ряд фрагментов, написанных в ответ на это письмо, но были ли они отосланы адресату – неизвестно…
С оглядкой в будущее (1924 – май 1925)
Переписка прервалась на год. За это время в жизни обоих произошли серьезные события.
Пастернак усиленно занимался обеспечением прожиточного минимума выросшей семьи – в сентябре 1923 года у него родился сын Евгений. Дело оказалось непростым, одно время (правда, несколько позже) пришлось заниматься даже сбором библиографии о Ленине. Вспоминая об этом, во «Вступлении» к роману «Спекторский» он иронично напишет:
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.
Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.
Цветаева же во второй половине 1923 года пережила, пожалуй, самое сильное из своих «сбывшихся» увлечений. Ее возлюбленным стал товарищ мужа по первым годам эмиграции Константин Родзевич. Чувство было взаимным. Может быть, впервые Марина Ивановна почувствовала себя счастливой – без забот, страхов и волнений за любимого. Родзевич даже предложил ей стать его женой, но… Но дальше произошло то, что происходило всегда (исключением был только Сергей Эфрон). Счастливый влюбленный не смог, как говорила в подобных случаях сама Цветаева, «вместить в себя» возлюбленную во всей ее сложности (проще говоря, соответствовать созданному ею образу), хотя бережно и целомудренно хранил память о ней всю свою долгую жизнь. Страдая сама и мучая Сергея Яковлевича (именно в этот период он написал процитированное выше письмо), Марина Ивановна металась между мужем и Родзевичем и в конце концов осталась в семье. Вскоре пережитое чувство «аукнулось» двумя шедеврами – «Поэмой Горы» и «Поэмой Конца».