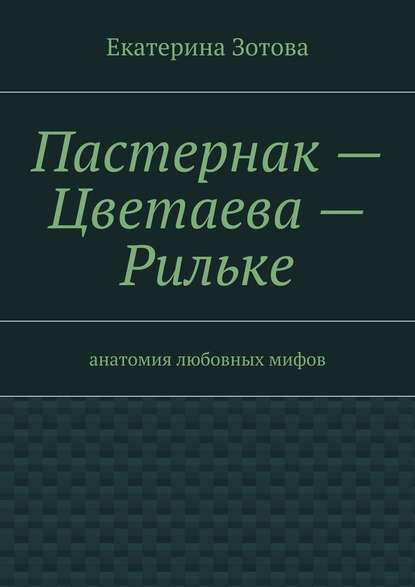По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пастернак – Цветаева – Рильке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ты думаешь – к Рильке можно вдвоем? И, вообще, можно – втроем? Нет, нет. Вдвоем можно к спящим. На кладбище. В уже безличное. Там, где еще лицо… Борис, ты бы разорвался от ревности, я бы разорвалась от ревности, а м.б. от непомерности такого втроем. Что же дальше? Умереть? <…> К Рильке за любовью – любить, тебе как мне.
– К Рильке мы бы, конечно, поехали» (ЦП, 127).
Парадоксальный вывод, завершающий тираду, на общем фоне выглядит уступкой, почти утешением – так обещают ребенку выполнить явно невыполнимую просьбу. В целом же позиция Марины Ивановны предельно ясна. Будучи принципиальной бессребреницей в быту (в голодной послереволюционной Москве она, мать двоих детей, делилась последней картошкой с немолодым и неустроенным Бальмонтом), в области личностных отношений Цветаева была неукротимой собственницей. Влюбленность (неважно – в человека или его произведения) всегда вызывала в ней стремление к полному и безраздельному обладанию возлюбленным, контролю над его духовным миром…
Впрочем, к моменту получения письма Пастернак уже знал, что Рильке жив. 3 августа он запросил у живущей в Мюнхене сестры Жозефины подробности его кончины (ПРС, 265) и вскоре получил не только опровержение слуха, но и последний сборник поэта «Сонеты к Орфею». Возможно, поэтому он обратил внимание не на отповедь Цветаевой, а на согласие на поездку. Странно, что сама Марина Ивановна так долго оставалась в неведении относительно своей ошибки. Виновато ли в этом чешское захолустье, или она просто не стремилась (несмотря на запрос друга!) узнавать подробности, чтобы не разрушить свой миф о смерти Гения?…
Между тем, этот слух активизировал в сознании Пастернака процессы, зародившиеся еще в 1923 году, когда писалась поэма «Высокая болезнь». Поэт давно задумывался о смысле головокружительных перемен, происходящих в стране и мире. Но до сих пор, не находя внятного объяснения «перемешанности времен», чувству «неизвестности и тревоги за свое детство, за свои собственные корни» (ЦП, 122), он «посвящал все эти ощущения Рильке, как можно посвятить кому-нибудь свою заботу или время» (ЦП, 123). Уход Рильке в этой ситуации значил одно: надеяться на решение проблемы кем-то другим больше не приходится. В августовском письме, размышляя о необходимости исторического осмысления жизни, Борис Леонидович напишет:
«Мы рискуем быть отлученными от глубины, если, в каком-то отношении, не станем историографами. <…> Мне все больше и больше кажется, что то, чем история занимается вплотную – есть наш горизонт, без которого у нас все будет плоскостью или переводной картинкой» (ЦП, 124, 125).
Сам Пастернак этот поворот в творчестве миновал. Еще зимой 1925 года был начат роман в стихах «Спекторский», героем которого стал прекраснодушный, придавленный катком революции интеллигент, а летом он засел за поэму «905 год». Однако Цветаева в ответном письме никак не откликнулась на эти рассуждения, хотя довольно подробно написала о предстоящем переезде в Париж и о том, что собирается послать Борису Леонидовичу посылку с одеждой для него и сына. Впрочем, это и неудивительно: ее, чистого лирика, история интересовала мало. (Характерно, что в статье «Поэты с историей и поэты без истории», опубликованной в 1934 году, она причислила Пастернака к кругу «поэтов без истории», «поэтов без развития»…)
В начале 1926 года, узнав о гибели Сергея Есенина и задумав поэму о нем, Марина Ивановна впервые просит Пастернака о помощи. Ей нужны материалы о последних месяцах его жизни – и Пастернак с готовностью бросается на поиски, подключив к ним своих знакомых. А чуть раньше, в начале января, сообщив ей о самоубийстве, он подробно рассказывает о своей ссоре с Есениным и так объясняет смысл своего поступка:
«И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя в устраненье фальшивых видимостей из жизни, т.е. когда, точнее, я услышал свои же слова, ему сказанные когда-то, и лишившиеся, в его употребленьи, всей большой правды, их наполнявшей, я тут же на месте, за это и только за это, дал ему пощечину. Это было дано за плоскость и пустоту, сказавшиеся в той области, где естественно было ждать от большого человека глубины и задушевности» (ЦП, 130).
Вряд ли эти слова вызваны только стремлением облегчить чувство «тягостности», связанное с погибшим. В контексте письма они звучат еще и мольбой о пощаде, обращенной к самой Цветаевой. Незадолго до этого Марина Ивановна прислала Пастернаку посвященную ему поэму-сказку «Молодец». Высоко оценивая присланное, он пишет:
«Большая радость, большая честь, большая поддержка. Большое Горе: если Вы еще о посвященьи не пожалели, то пожалеете. Годы разведут нас в разные стороны, и я от Вас услышу свои же слова, серые, нехорошие, когда их тебе о себе самом возвращают, как открытье. Так будет, потому что – скользнуло предчувствие» (ЦП, 130).
Тем не менее, в начале февраля он посылает ей первые главы «большой работы о 905 годе» (ЦП, 134). Его интересовало мнение Цветаевой «о стихах про вонючее мясо и пр.» (ЦП, 134) – речь идет о событиях, которые привели к восстанию на броненосце «Потемкин». Впрочем, тут же он оговаривается:
«Но что бы Вы ни сказали, я это болото великой, но болезненно близкой и внеперспективной прозы изойду из конца в конец, осушу, кончусь в нем. Начинаю с 905-го, приду к современности» (ЦП, 134).
Отзыв Марины Ивановны нам неизвестен. Однако в следующем письме от 23 февраля Борис Леонидович говорит о «взрыве, которого я так давно ждал и боялся» (ЦП, 137). В письме приведено лишь одно выражение Цветаевой – утверждение, якобы Пастернак ее «потерял» (ЦП, 137). (В передаче Бориса Леонидовича это звучит пошловато. Возможно, так оно и было – известно, что Марина Ивановна легко превращала любые отношения в подобие любовных…) В ответ он пространно рассуждает о своем ничтожестве по сравнению с ней, но при этом решительно отметает саму возможность «потери», поскольку владеет «навсегда и неотъемлемо образом, говорящим мне из Верст и Ваших юношеских книг» (ЦП, 137—138). Чуть ниже он повторяет свое понимание взаимоотношений с Цветаевой: «…Это не человеческий роман, а толчки и соприкосновенья двух знаний, очутившихся вдвоем силой… содрогающего родства» (ЦП, 138). Пастернак в который раз подчеркивает, что ценит в ней прежде всего «одно из начал таланта …, которое мне кажется всеобъемлющим и предельным. То, которое, выгоняя в высоту индивидуальность и тем неся ее прочь от человека, делает это во имя перспективы, для того чтобы озираться на него, стоящего позади в кругозоре, все более и более насыщающемся соками времени, смысла и жалости» (ЦП, 139).
Стремясь добиться взаимопонимания с «большой образцовой душой, которая не может не быть большим умом, знающим все и любящим свое знанье» (ЦП, 137), Пастернак еще раз рассказывает Цветаевой о своем взгляде на историю и творческих замыслах.
«Наше время не вспышка стихии, не скифская сказка, не точка приложения красной мифологии. Это глава истории русского общества, и прекрасная глава, непосредственно следующая за главами о декабристах, народовольцах и 905-м годе. <…> Кроме того, глава эта в мировой истории будет называться социализмом, безо всяких кавычек, и опять-таки, в этом значении звена более обширного ряда окажется богатой непредвосхитимым нравственным содержаньем, формировка которого, однако, прямо зависит от каждой отдельной попытки его предугадать. Вот по чем голодает, пока еще совсем у меня беззубый, глаз. <…> Это надо увидеть и показать» (ЦП, 139—140).
На этот раз Борис Леонидович сам сделал ошибку, от которой предостерегал свою корреспондентку три года назад. «Вычитав» Цветаеву из ее книг, он хотел видеть в ней идеального соратника, проницательного и близкого по духу, строгого и справедливого, но в то же время все понимающего и готового помочь. Излишне доказывать, как далека была увлекающаяся, эгоцентричная Марина Ивановна от такого идеала. (Впрочем, он и сам чувствовал это, замечая: «Но о чем я пишу Вам! Вам ведь интересно совсем не это» (ЦП, 140).) Кажется, она не помнила своей фразы о потере (а была ли фраза?…) и даже не поняла, какую бурю чувств вызвала своим письмом. Как ни в чем не бывало, Цветаева продолжает писать ему «ты», делится своими новостями – в следующем письме Пастернак благодарит ее за подробный рассказ о творческом вечере (ЦП, 143). Правда, в конце письма делает многозначительную приписку, которую Борис Леонидович приводит в своем отклике: «Смеюсь на себя за все эти годы назад с тобой. Как смеюсь!» (ЦП, 144). Похоже, Марина Ивановна окончательно «разжаловала» Пастернака из возлюбленных в друзья-приятели – и довольно ясно намекала ему на это.
Письмо вызвало очередной взрыв эмоций. Примерно половину ответа занимает страстная мольба, суть которой выражена в одной фразе: «…пиши мне на вы, умоляю тебя, нам не надо взрываться» (ЦП, 141). Какая борьба чувств в этом чередовании «вы» и «ты»! Чуть ниже Борис Леонидович овладевает собой и решительно переходит на «Вы».
Впрочем, не меньше его взволновала процитированная выше фраза. Над чем (или над кем) смеется Цветаева? Над очередным крушением собственных фантазий – или над тем, кто оказался недостоин ее чувств? Для Пастернака второй вариант несомненен.
«Вы вправду хотите напомнить мне, как много тогда было и как не осталось ничего? – в смятении вопрошает он и заклинает. – Не говорите этой фразы, даже и про себя, и только!! <…> …Я пуще судьбы боюсь этой Вашей фразы, п.ч. знаю вес Ваших слов и то, как вся Вы в них окунаетесь, и вот Вы действительно пойдете „смеяться на себя за все эти годы“, верная собственному слову, перестав слышать, что значит этот смех, и смеющаяся, и предмет насмешки. Умоляю Вас, пишите мне на „Вы“ и перестаньте смеяться» (ЦП, 144).
Мнительному и не уверенному в себе, Борису Леонидовичу показалось, что Цветаева утратила веру в его творческую состоятельность. А ведь именно она, эта вера, поддерживала его уже несколько лет! Он не знал, что так Марина Ивановна прощается с каждым своим возлюбленным. (Вспомним еще раз фразу из письма С. Я. Эфрона Максимилиану Волошину: «Вчерашние возбудители <чувства, – Е.З.> сегодня остроумно и зло высмеиваются». ) И не сам ли Пастернак методично разрушал миф, сотворенный Цветаевой после знакомства с «Сестрой моей жизнью»?…
Однако уже в следующем письме, написанном примерно через две недели, картина решительно меняется. Он снова – и уже окончательно – переходит на «ты». Ведь в ответе Марина Ивановна напомнила ему о том, что? значит для нее это обращение: ее «ты» – «бунтовское», обычно ее зовут на «вы» (ЦП, 146). «Однако между твоим письмом и моей сегодняшней свободой нет связи», – уточняет Пастернак и рассказывает, как, беседуя с приехавшей в Москву из Петербурга Анной Ахматовой, окунулся в атмосферу родственной близости, захватившую всех троих: «…Болтая ногами, гимназистка обсуждала с гимназистом, что у них пройдено по географии, и разговор этот происходил в отсутствие тебя, сестры по парте, в… учебном заведении, усеянном звездами, к вечеру схватывающемся тонким черным ледком, от фонаря к фонарю» (ЦП, 145—146). После этого его «ты» «вырвалось и потекло, став, как первоначально – школьным, чистым, детским» (ЦП, 146). В этом же письме мелькает фраза, позволяющая предположить, что Пастернак видел одно из «парных» выступлений сестер Цветаевых 1913—14 годов, на которых они, взявшись за руки, в унисон читали Маринины стихи, или, по крайней мере, слышал о них.
Возможно, эта атмосфера невинной детской дружбы стала для него защитой от мыслей о невольной измене жене, пусть только духовной. В том же письме он сообщает, что «хотел рассказать… о жене и ребенке, о перемене, произошедшей в эти годы со мной, и – в эти дни; о том, как ее не понимают; о том, как чиста моя совесть и как, захлебываясь тобою, я люблю и болею, когда она (жена, – Е.З.) не пьет рыбьего жира… Только тебе можно говорить правду, только по дороге к тебе она не попадает в соли и щелочи, разъедающие ее до лжи» (ЦП, 147). Видимо, было в ответе Цветаевой что-то, что вернуло Борису Леонидовичу веру в себя. Тем не менее, казалось, что ее чувство остывает, в то время как его только разгорается. Буквально через пару дней Пастернак получил очередную порцию «дров» в его топку – порцию, которая станет началом нового этапа этой истории.
Несущие поэзию (март – май 1926)
Ею стала цветаевская «Поэма Конца», машинописные копии которой уже ходили по Москве. В начале 20-х чисел марта одна из них, скверного качества, попала в руки Пастернака. Для Бориса Леонидовича, задавленного чрезмерной требовательностью к себе, непониманием окружающих и хроническими семейными неурядицами, само бытование поэмы в России без участия типографского станка было равносильно чудесному явлению Поэзии там, где он ее давно оплакал.
25 марта он написал Марине Ивановне:
«Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то вдали, то вдруг с тобой, перед самыми глазами, качу к кому-нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микеланджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца. Попала ко мне случайно, ремингтонированная, без знаков препинанья. <…> Сижу и читаю так, точно ты это видишь, люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила» (ЦП, 148, 149).
Повторилась история с «Вёрстами»: погружение в новый шедевр Цветаевой породило волну любви, нежности, преклонения перед ее талантом.
Однако на этот раз он уже не сдерживает чувств, шлет ей одно за другим четыре больших письма, в которых объяснения в любви перемежаются размышлениями о будущем, о сути творчества и собственной судьбе. Этот сплав в отношениях Пастернака к Цветаевой глубоко естественен.
«Надо было прочесть Поэму Конца, – пишет он в одном из них, – чтобы увидать, что большая поэзия жива, что, против ожиданья, можно жить. К Поэме Конца присоединился еще один факт, тоже родом из большой поэзии. О нем после» (ЦП, 156—157), – проговорившись, спохватывается он.
Этим фактом стало известие, полученное практически одновременно с цветаевской поэмой – в письме от отца, датированном 17 марта. В нем, сообщая о получении ответа от Рильке на давнее поздравление с юбилеем (что для Пастернака само по себе было чудом), Леонид Осипович вскользь замечает, обещая прислать выписки из оригинала: «он о тебе, Боря, с восторгом пишет… и недавно читал в парижском журнале перевод Valery» (ПРС, 281).
– К Рильке мы бы, конечно, поехали» (ЦП, 127).
Парадоксальный вывод, завершающий тираду, на общем фоне выглядит уступкой, почти утешением – так обещают ребенку выполнить явно невыполнимую просьбу. В целом же позиция Марины Ивановны предельно ясна. Будучи принципиальной бессребреницей в быту (в голодной послереволюционной Москве она, мать двоих детей, делилась последней картошкой с немолодым и неустроенным Бальмонтом), в области личностных отношений Цветаева была неукротимой собственницей. Влюбленность (неважно – в человека или его произведения) всегда вызывала в ней стремление к полному и безраздельному обладанию возлюбленным, контролю над его духовным миром…
Впрочем, к моменту получения письма Пастернак уже знал, что Рильке жив. 3 августа он запросил у живущей в Мюнхене сестры Жозефины подробности его кончины (ПРС, 265) и вскоре получил не только опровержение слуха, но и последний сборник поэта «Сонеты к Орфею». Возможно, поэтому он обратил внимание не на отповедь Цветаевой, а на согласие на поездку. Странно, что сама Марина Ивановна так долго оставалась в неведении относительно своей ошибки. Виновато ли в этом чешское захолустье, или она просто не стремилась (несмотря на запрос друга!) узнавать подробности, чтобы не разрушить свой миф о смерти Гения?…
Между тем, этот слух активизировал в сознании Пастернака процессы, зародившиеся еще в 1923 году, когда писалась поэма «Высокая болезнь». Поэт давно задумывался о смысле головокружительных перемен, происходящих в стране и мире. Но до сих пор, не находя внятного объяснения «перемешанности времен», чувству «неизвестности и тревоги за свое детство, за свои собственные корни» (ЦП, 122), он «посвящал все эти ощущения Рильке, как можно посвятить кому-нибудь свою заботу или время» (ЦП, 123). Уход Рильке в этой ситуации значил одно: надеяться на решение проблемы кем-то другим больше не приходится. В августовском письме, размышляя о необходимости исторического осмысления жизни, Борис Леонидович напишет:
«Мы рискуем быть отлученными от глубины, если, в каком-то отношении, не станем историографами. <…> Мне все больше и больше кажется, что то, чем история занимается вплотную – есть наш горизонт, без которого у нас все будет плоскостью или переводной картинкой» (ЦП, 124, 125).
Сам Пастернак этот поворот в творчестве миновал. Еще зимой 1925 года был начат роман в стихах «Спекторский», героем которого стал прекраснодушный, придавленный катком революции интеллигент, а летом он засел за поэму «905 год». Однако Цветаева в ответном письме никак не откликнулась на эти рассуждения, хотя довольно подробно написала о предстоящем переезде в Париж и о том, что собирается послать Борису Леонидовичу посылку с одеждой для него и сына. Впрочем, это и неудивительно: ее, чистого лирика, история интересовала мало. (Характерно, что в статье «Поэты с историей и поэты без истории», опубликованной в 1934 году, она причислила Пастернака к кругу «поэтов без истории», «поэтов без развития»…)
В начале 1926 года, узнав о гибели Сергея Есенина и задумав поэму о нем, Марина Ивановна впервые просит Пастернака о помощи. Ей нужны материалы о последних месяцах его жизни – и Пастернак с готовностью бросается на поиски, подключив к ним своих знакомых. А чуть раньше, в начале января, сообщив ей о самоубийстве, он подробно рассказывает о своей ссоре с Есениным и так объясняет смысл своего поступка:
«И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя в устраненье фальшивых видимостей из жизни, т.е. когда, точнее, я услышал свои же слова, ему сказанные когда-то, и лишившиеся, в его употребленьи, всей большой правды, их наполнявшей, я тут же на месте, за это и только за это, дал ему пощечину. Это было дано за плоскость и пустоту, сказавшиеся в той области, где естественно было ждать от большого человека глубины и задушевности» (ЦП, 130).
Вряд ли эти слова вызваны только стремлением облегчить чувство «тягостности», связанное с погибшим. В контексте письма они звучат еще и мольбой о пощаде, обращенной к самой Цветаевой. Незадолго до этого Марина Ивановна прислала Пастернаку посвященную ему поэму-сказку «Молодец». Высоко оценивая присланное, он пишет:
«Большая радость, большая честь, большая поддержка. Большое Горе: если Вы еще о посвященьи не пожалели, то пожалеете. Годы разведут нас в разные стороны, и я от Вас услышу свои же слова, серые, нехорошие, когда их тебе о себе самом возвращают, как открытье. Так будет, потому что – скользнуло предчувствие» (ЦП, 130).
Тем не менее, в начале февраля он посылает ей первые главы «большой работы о 905 годе» (ЦП, 134). Его интересовало мнение Цветаевой «о стихах про вонючее мясо и пр.» (ЦП, 134) – речь идет о событиях, которые привели к восстанию на броненосце «Потемкин». Впрочем, тут же он оговаривается:
«Но что бы Вы ни сказали, я это болото великой, но болезненно близкой и внеперспективной прозы изойду из конца в конец, осушу, кончусь в нем. Начинаю с 905-го, приду к современности» (ЦП, 134).
Отзыв Марины Ивановны нам неизвестен. Однако в следующем письме от 23 февраля Борис Леонидович говорит о «взрыве, которого я так давно ждал и боялся» (ЦП, 137). В письме приведено лишь одно выражение Цветаевой – утверждение, якобы Пастернак ее «потерял» (ЦП, 137). (В передаче Бориса Леонидовича это звучит пошловато. Возможно, так оно и было – известно, что Марина Ивановна легко превращала любые отношения в подобие любовных…) В ответ он пространно рассуждает о своем ничтожестве по сравнению с ней, но при этом решительно отметает саму возможность «потери», поскольку владеет «навсегда и неотъемлемо образом, говорящим мне из Верст и Ваших юношеских книг» (ЦП, 137—138). Чуть ниже он повторяет свое понимание взаимоотношений с Цветаевой: «…Это не человеческий роман, а толчки и соприкосновенья двух знаний, очутившихся вдвоем силой… содрогающего родства» (ЦП, 138). Пастернак в который раз подчеркивает, что ценит в ней прежде всего «одно из начал таланта …, которое мне кажется всеобъемлющим и предельным. То, которое, выгоняя в высоту индивидуальность и тем неся ее прочь от человека, делает это во имя перспективы, для того чтобы озираться на него, стоящего позади в кругозоре, все более и более насыщающемся соками времени, смысла и жалости» (ЦП, 139).
Стремясь добиться взаимопонимания с «большой образцовой душой, которая не может не быть большим умом, знающим все и любящим свое знанье» (ЦП, 137), Пастернак еще раз рассказывает Цветаевой о своем взгляде на историю и творческих замыслах.
«Наше время не вспышка стихии, не скифская сказка, не точка приложения красной мифологии. Это глава истории русского общества, и прекрасная глава, непосредственно следующая за главами о декабристах, народовольцах и 905-м годе. <…> Кроме того, глава эта в мировой истории будет называться социализмом, безо всяких кавычек, и опять-таки, в этом значении звена более обширного ряда окажется богатой непредвосхитимым нравственным содержаньем, формировка которого, однако, прямо зависит от каждой отдельной попытки его предугадать. Вот по чем голодает, пока еще совсем у меня беззубый, глаз. <…> Это надо увидеть и показать» (ЦП, 139—140).
На этот раз Борис Леонидович сам сделал ошибку, от которой предостерегал свою корреспондентку три года назад. «Вычитав» Цветаеву из ее книг, он хотел видеть в ней идеального соратника, проницательного и близкого по духу, строгого и справедливого, но в то же время все понимающего и готового помочь. Излишне доказывать, как далека была увлекающаяся, эгоцентричная Марина Ивановна от такого идеала. (Впрочем, он и сам чувствовал это, замечая: «Но о чем я пишу Вам! Вам ведь интересно совсем не это» (ЦП, 140).) Кажется, она не помнила своей фразы о потере (а была ли фраза?…) и даже не поняла, какую бурю чувств вызвала своим письмом. Как ни в чем не бывало, Цветаева продолжает писать ему «ты», делится своими новостями – в следующем письме Пастернак благодарит ее за подробный рассказ о творческом вечере (ЦП, 143). Правда, в конце письма делает многозначительную приписку, которую Борис Леонидович приводит в своем отклике: «Смеюсь на себя за все эти годы назад с тобой. Как смеюсь!» (ЦП, 144). Похоже, Марина Ивановна окончательно «разжаловала» Пастернака из возлюбленных в друзья-приятели – и довольно ясно намекала ему на это.
Письмо вызвало очередной взрыв эмоций. Примерно половину ответа занимает страстная мольба, суть которой выражена в одной фразе: «…пиши мне на вы, умоляю тебя, нам не надо взрываться» (ЦП, 141). Какая борьба чувств в этом чередовании «вы» и «ты»! Чуть ниже Борис Леонидович овладевает собой и решительно переходит на «Вы».
Впрочем, не меньше его взволновала процитированная выше фраза. Над чем (или над кем) смеется Цветаева? Над очередным крушением собственных фантазий – или над тем, кто оказался недостоин ее чувств? Для Пастернака второй вариант несомненен.
«Вы вправду хотите напомнить мне, как много тогда было и как не осталось ничего? – в смятении вопрошает он и заклинает. – Не говорите этой фразы, даже и про себя, и только!! <…> …Я пуще судьбы боюсь этой Вашей фразы, п.ч. знаю вес Ваших слов и то, как вся Вы в них окунаетесь, и вот Вы действительно пойдете „смеяться на себя за все эти годы“, верная собственному слову, перестав слышать, что значит этот смех, и смеющаяся, и предмет насмешки. Умоляю Вас, пишите мне на „Вы“ и перестаньте смеяться» (ЦП, 144).
Мнительному и не уверенному в себе, Борису Леонидовичу показалось, что Цветаева утратила веру в его творческую состоятельность. А ведь именно она, эта вера, поддерживала его уже несколько лет! Он не знал, что так Марина Ивановна прощается с каждым своим возлюбленным. (Вспомним еще раз фразу из письма С. Я. Эфрона Максимилиану Волошину: «Вчерашние возбудители <чувства, – Е.З.> сегодня остроумно и зло высмеиваются». ) И не сам ли Пастернак методично разрушал миф, сотворенный Цветаевой после знакомства с «Сестрой моей жизнью»?…
Однако уже в следующем письме, написанном примерно через две недели, картина решительно меняется. Он снова – и уже окончательно – переходит на «ты». Ведь в ответе Марина Ивановна напомнила ему о том, что? значит для нее это обращение: ее «ты» – «бунтовское», обычно ее зовут на «вы» (ЦП, 146). «Однако между твоим письмом и моей сегодняшней свободой нет связи», – уточняет Пастернак и рассказывает, как, беседуя с приехавшей в Москву из Петербурга Анной Ахматовой, окунулся в атмосферу родственной близости, захватившую всех троих: «…Болтая ногами, гимназистка обсуждала с гимназистом, что у них пройдено по географии, и разговор этот происходил в отсутствие тебя, сестры по парте, в… учебном заведении, усеянном звездами, к вечеру схватывающемся тонким черным ледком, от фонаря к фонарю» (ЦП, 145—146). После этого его «ты» «вырвалось и потекло, став, как первоначально – школьным, чистым, детским» (ЦП, 146). В этом же письме мелькает фраза, позволяющая предположить, что Пастернак видел одно из «парных» выступлений сестер Цветаевых 1913—14 годов, на которых они, взявшись за руки, в унисон читали Маринины стихи, или, по крайней мере, слышал о них.
Возможно, эта атмосфера невинной детской дружбы стала для него защитой от мыслей о невольной измене жене, пусть только духовной. В том же письме он сообщает, что «хотел рассказать… о жене и ребенке, о перемене, произошедшей в эти годы со мной, и – в эти дни; о том, как ее не понимают; о том, как чиста моя совесть и как, захлебываясь тобою, я люблю и болею, когда она (жена, – Е.З.) не пьет рыбьего жира… Только тебе можно говорить правду, только по дороге к тебе она не попадает в соли и щелочи, разъедающие ее до лжи» (ЦП, 147). Видимо, было в ответе Цветаевой что-то, что вернуло Борису Леонидовичу веру в себя. Тем не менее, казалось, что ее чувство остывает, в то время как его только разгорается. Буквально через пару дней Пастернак получил очередную порцию «дров» в его топку – порцию, которая станет началом нового этапа этой истории.
Несущие поэзию (март – май 1926)
Ею стала цветаевская «Поэма Конца», машинописные копии которой уже ходили по Москве. В начале 20-х чисел марта одна из них, скверного качества, попала в руки Пастернака. Для Бориса Леонидовича, задавленного чрезмерной требовательностью к себе, непониманием окружающих и хроническими семейными неурядицами, само бытование поэмы в России без участия типографского станка было равносильно чудесному явлению Поэзии там, где он ее давно оплакал.
25 марта он написал Марине Ивановне:
«Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то вдали, то вдруг с тобой, перед самыми глазами, качу к кому-нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микеланджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца. Попала ко мне случайно, ремингтонированная, без знаков препинанья. <…> Сижу и читаю так, точно ты это видишь, люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила» (ЦП, 148, 149).
Повторилась история с «Вёрстами»: погружение в новый шедевр Цветаевой породило волну любви, нежности, преклонения перед ее талантом.
Однако на этот раз он уже не сдерживает чувств, шлет ей одно за другим четыре больших письма, в которых объяснения в любви перемежаются размышлениями о будущем, о сути творчества и собственной судьбе. Этот сплав в отношениях Пастернака к Цветаевой глубоко естественен.
«Надо было прочесть Поэму Конца, – пишет он в одном из них, – чтобы увидать, что большая поэзия жива, что, против ожиданья, можно жить. К Поэме Конца присоединился еще один факт, тоже родом из большой поэзии. О нем после» (ЦП, 156—157), – проговорившись, спохватывается он.
Этим фактом стало известие, полученное практически одновременно с цветаевской поэмой – в письме от отца, датированном 17 марта. В нем, сообщая о получении ответа от Рильке на давнее поздравление с юбилеем (что для Пастернака само по себе было чудом), Леонид Осипович вскользь замечает, обещая прислать выписки из оригинала: «он о тебе, Боря, с восторгом пишет… и недавно читал в парижском журнале перевод Valery» (ПРС, 281).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: