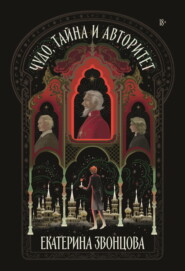По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма к Безымянной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не мой. – Она не дрогнула, не отвела глаз, наоборот, посмотрела прямо, строго и удивленно. – Глупый Людвиг. Ты что? Почему ты решил?..
– Не знаю! – торопливо обрывает он, не понимая, как спрятать позорное облегчение, и просто закрывает ладонями лицо, принимается тереть лоб. – Прости, я… я правда не знаю. Он так красив и… чуден, совсем как ты, или я ослеп отчего-то, забудь, за…
Он осекается под тихий, нежный смех.
– Ну что ты… хотя иметь такого сына было бы честью.
Сложив вышивку на коленях, Безымянная подносит ладонь к бледно-розовым губам, чтобы прикрыть ласковый смешок, – и Людвиг снова видит то, к чему не готов. Уже не холод, но пламя владеет им: на пальце дрожит капля крови. Она будто упала на снег – так бела кожа, нежная, матовая. До этого сверкающего рубина уменьшился мир, уменьшились все беды и желания. Прежде чем остановил бы себя, Людвиг подступает, падает на колени рядом, перехватывает тонкую кисть: рассудок почти не подчиняется. В висках стучит. И снова чудовище внутри, то самое, жадное и неуправляемое, рвется с цепей.
– Людвиг! – Сползает к острому локтю свободный рукав.
Предплечье, дрогнув, обнажается, по снегу бегут тонкие ветви вен.
– Укололась, – шепчет пылающая темнота внутри. – И у тебя алая кровь, как у всех… – Склонившись, Людвиг тянет пораненный палец к губам. – Больно? Сейчас пройдет. Я всю эту боль заберу себе, я совсем не замечу ее за своей, поверь, отдай…
Она глядит сверху вниз, окутанная нимбом собственных волос. Она испугана, почему иначе позволяет эту дерзость? Осторожный поцелуй в окровавленную подушечку указательного пальца, второе нежное касание губ к кончикам ногтей, напоминающих яблоневые лепестки; третье – к верхним фалангам. Людвиг судорожно вздыхает, сам не понимая, как смеет; глаза мечутся по ее силуэту – по жемчужно-серому платью; по вырезу над грудью, окантованному лилейным кружевом; по шее, на которой ни единой цепочки, лишь крест из светлых родинок. Если бы только он мог встать, поднять ее на ноги и привлечь к себе одним рывком, если бы мог подхватить. Если бы мог – сейчас, сейчас, сейчас – сказать: «Поцелуй меня» – или вырвать поцелуй сам…
– Людвиг.
Но ее взгляд – не небо кроткой Лауры, а омут властной Нимуэ[42 - Одно из имен Владычицы Озера из цикла мифов о короле Артуре.]. Рука в его ладони – мертвый цветок, кровь на губах – вода. У этой крови нет вкуса и запаха, ничего, кроме цвета. Иллюзия распадается так же легко, как возникла. И пронзает сумеречным отчаянием.
– Кто же ты? – шепчет Людвиг, хотя не спрашивал так давно. Привык звать ее ветте – лишь ветте; молится на нее как на ангела; желает ее как земное существо, и иной правды ему, казалось бы, не нужно. Но второй предательский вопрос все же не удается удержать, он полон такой же муки, как стон о сыне: – И… есть ли ты?
– Людвиг. – Набравший силу голос заставляет вздрогнуть. Замерев, он ждет оскорбленной оплеухи, даже не пробует отстраниться и спастись от унижения, но Безымянная лишь касается ладонью его щеки. Отводит волосы, зарывается в них, чуть сжимает пальцы. – Я есть. Но не делай этого, – она подается чуть ближе, и желание коснуться губами ее губ снова неодолимо, – никогда. – Слово как еще одна раскаленная печать. – Нет для тебя ничего хуже, чем попробовать кровь, особенно мою. Именно потому, что я… есть.
«Попробовать кровь»… снова эти слова, прощальное предостережение всех уезжающих из города. Но ведь они о другом: о багровых реках в Париже, о священниках и солдатах, о мирных демонстрантах и женщинах, о безликом монстре, чьим именем[43 - Речь о т. н. Культе Верховного Существа, введенном революционерами, чтобы заменить католичество.] – отсутствием имени – теперь заменяют в молитвах имя Христа. Но говоря, Безымянная едва скрывает страх. Глаза расширены, губы подрагивают, а пальцы сжимаются у затылка Людвига все судорожнее. Если бы хоть капля румянца проступила на скулах, если бы можно было обмануться, принять этот трепет за смущение и удовольствие! Но лицо белее снега, белее ликов алебастровых богинь эллинов, и только темнеют глаза Нимуэ, требующие ответа.
– Хорошо… не стану. Прости. – Людвиг смыкает ресницы и целует руку Безымянной еще раз – запястье, узкое и прохладное. Кивнув, она проводит по его волосам, отстраняется, и вышивка от неосторожного движения падает с колен. Людвиг наклоняется, поднимает ее, еще раз всматривается в красивого мальчика.
«Сын. Не мой»…
– Мария, – шепчет он, спонтанно уверенный, что зря пренебрегал простым ответом, святейшим и нежнейшим. На этот раз он успевает поймать легкое, почти скорбное качание головы и, до судороги сжав на вышивке пальцы, лишь бы не отдать ее, лишь бы задержать само время, пробует еще и еще. – Нимуэ, Элейн, Вивиан… Лаура! Лаура…
Он один. А в его руке ничего нет.
Ты всегда умела это – оставлять меня пылающим. О любой другой я подумал бы: она дразнит, играет. Зовет на бой, хочет, чтобы я доказал верность и превозмог что-то – гордость, стыд, разум. Чтобы сразу падал ниц и поднимался лишь по ее зову. Но то была ты. Ты, опускавшаяся на колени подле меня и помогавшая мне как вставать, так и тащить отца по грязи. У твоего холода была иная причина, та, которая, теперь я уверен, страшила тебя саму. И я покорялся раз за разом, ничего не способный сделать.
В тот день, впрочем, у меня не было времени долго терзаться и остужать рассудок. Ведь до того, как чудовище внутри меня принялось целовать твои пальцы, мы говорили о том, что не терпело отлагательств.
Было раннее утро, отъезд предстоял завтра. На план мне хватило шести визитов, занявших время лишь до обеда. Все удалось. Оказывается, я умел говорить убедительно – или просто немыслимым образом стяжал доверие друзей, которое теперь трудно было бы попрать. Все они, наоборот, поддержали меня. Оставалось одно.
Когда я вернулся в дом, по нему раскатывался свистящий отцовский храп. Николаус, как обычно, трудился с зари; Каспара же я нашел в музыкальной комнате. Каспар сидел за фортепиано, но не играл, глядел куда-то на пустой пюпитр. Глаза отстраненно блестели; широкая спина горбилась. Из-за сутулой позы он казался еще ниже, а из-за сгущенного шторами полумрака и рыжести – облитым ржавчиной. Едва ли он был в добром расположении духа. Как, впрочем, и всегда.
– Здравствуй, – сказал я первым: выбора не было.
Голову брат повернул медленно и совсем чуть-чуть – скорее мазнул по моей приближающейся фигуре взглядом, чем действительно посмотрел.
– Сейчас мое время, – не размениваясь на ответное приветствие, бросил он.
Понять его я мог: прежде мы сталкивались лбами в борьбе за единственный в новом, нищем доме инструмент. Времена, когда у каждого был свой, канули в лету, но в последние месяцы я не жалел об этом, обещая себе хорошее фортепиано в Вене. Сейчас я постарался не придавать значения интонации Каспара: подошел, остановился над ним, сложил руки за спиной и обхватил правое запястье левым. Я надеялся, что не сорвусь, куда бы наш разговор ни повернул и в какой бы тональности ни продолжился. Эту позу я часто принимал, чтобы овладеть собой.
– Скоро оно все будет твоим. Но сейчас мне нужно с тобой… попрощаться.
Я сам не осознал, как вместо «поговорить» выбрал это слово, – и раскаялся, стоило увидеть на лице брата желчную, кривую улыбку.
– А. То есть ты освобождаешь меня от необходимости провожать тебя с ранья и махать платком? Благодарю.
Я действительно собирался уезжать на рассвете, привычным транспортом. В этот раз мною руководила не только экономия: никто лучше почтовых кучеров не умел петлять по дорогам, избегая встреч с солдатами и риска попасть под обстрел. Мирный берег Рейна стал непредсказуемым. Там и тут разбивались лагеря, там и тут шныряли лазутчики. До грабежей не доходило, но кого угодно могли остановить, начать задавать скользкие вопросы о политических взглядах и провоцировать. Покидать Бонн нужно было осторожно.
– Разумеется, я без тебя обойдусь, высыпайся. – Я надеялся его умаслить, но он процедил сквозь зубы:
– Обойдешься. Ну конечно. Смертные и не провожают богов на Олимп…
– Каспар, – быстро, но еще спокойно оборвал я. Меня злило, что он цепляется к словам; злила кривая улыбка и дрожащие ямочки на поросших рыжим пухом щеках. Но я дал себе обещание все стерпеть. – В таком случае бог пришел к своему брату, который может считать себя кем угодно… – я помедлил, дождавшись, пока он поднимет взгляд, – с просьбой. И она для меня очень важна.
По крайней мере, я удивил его: ненастные глаза блеснули любопытством. Каспар даже хотел привстать, но тут же, наоборот, плотнее уселся на банкетку. Он жевал губы, будто размышляя, уронить достоинство до прямого вопроса или просто подождать, и я избавил его от выбора, сказав:
– Я оставляю нескольких учеников и учениц. Все это дети чиновников, которые не могут покинуть город. Друзья Брейнингов и графа Вальдштейна, их кузины и племянники, с некоторыми я успел только договориться…
– И бросаешь, – припечатал Каспар. Впрочем, он был прав.
– Бросаю. Чего совершенно не хочу. Поэтому… – я помедлил и перешел наконец к главному, – я сказал им, что, возможно, ты согласишься меня заменить.
Повисла тишина: я решил взять паузу на случай, если меня сразу осадят, а Каспар то ли не верил услышанному, то ли потерял дар речи. Он смотрел на меня снизу вверх, и сколько ни тянулись секунды, я не мог прочитать его взгляд. Там был не совсем гнев, не совсем отвращение – скорее, досадливое недоумение. Брат перестал жевать губы, приоткрыл рот, отчего вид его стал вдруг беззащитным, юным. Ему едва исполнилось восемнадцать… порой я забывал об этом. С опозданием я понял: он смутился. И, вероятно, испугался.
– Ты хороший педагог, – тихо продолжил я, не слишком, впрочем, понимая, чем подкрепить слова: учеников у Каспара не было. – Я имею в виду твое виденье музыки, понимание. Я помню… – не хотелось ковырять нарывы, портившие нам отношения годами, но в них таился весомый аргумент, – в партитурах, которые ты… брал… были твои исправления. Мне показывали издатели… – поразительно, говорили мы о его воровстве, а глаза отводил я, – неважно. Это были меткие исправления. Некоторые я принял к сведению.
Каспар молчал. Рот он закрыл, собрался, а мрак в глазах словно сгустился. Ни тени раскаяния, ни тени гнева, только ожидание. Мне было что добавить. Я продолжил:
– Я не давал никаких обещаний за тебя. Сказал, что лишь попрошу, а ты сам напишешь ответы или нанесешь визиты. Я оставлю тебе список, ты почти всех знаешь. Они бывают в капелле, были с нами на балете у Вальдштейна… – Невольно я зачастил. – Все зависит только от тебя! Я не заставляю! Я просто…
«Мне кажется, это твое призвание, у тебя получится, и ты будешь радоваться, видя их результаты». Но скажи я такое – брат бы расхохотался или даже ударил меня, поинтересовавшись, с чего я возомнил себя знатоком его души. И я закончил иначе:
– Я очень хочу, чтобы уроки отвлекали от… новостей и приносили радость вам всем. И деньги тебе, конечно. Вряд ли ты захочешь дальше зависеть от заработков Нико и пособия отца, а что касается оркестра… – я вздохнул, – курфюрста сейчас это не волнует. Он уезжает. Часть музыкантов просто распустят. Герру Нефе уже сократили жалование, а мне в Вену будут посылать буквально крохи меценатской помощи, и даже их я выпросил лишь на условии, что когда-нибудь вернусь и займу тут должность[44 - Из-за затянувшихся на 20 лет военных действий Людвиг так и не вернулся в Вену.].
С каждым витком скорее родительского, чем братского монолога я чувствовал себя все глупее и неуютнее под пробирающим до костей взглядом. Наконец риторика моя иссякла, и я почти умоляюще спросил:
– Так что скажешь?
Глаза брата блеснули ярче – и показалось, что вместо ответа мне прилетит в живот кулак. Мы никогда не дрались, тычки и тумаки он позволял себе только с Нико, но даже это быстро бросил, начал держаться с нами обоими скорее как с двумя жирными слизнями, ползающими по его дому, но по нелепой случайности не подлежащими убийству. Но сейчас – видя на скулах Каспара желваки и слыша слабый скрип его зубов – я действительно опасался удара. Впрочем, брат остался сидеть на банкетке, даже устроился вальяжнее: поставил на застонавшие клавиши фортепиано локоть, подпер подбородок ладонью.
– Думаю, ты доволен собой, – наконец изрек он. Я вздрогнул.
– О чем ты?..
– Отправишься в новую жизнь, бросив мне кость… – Губы скривились. – Очаровательное благородство. В этом весь ты.
Правую руку пронзила боль: я стиснул ее левой так, будто хотел сломать, даже начал выворачивать… Я одернул себя, не дал дрогнуть ни одной мышце. Нет, нет…