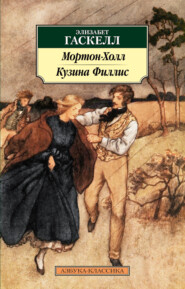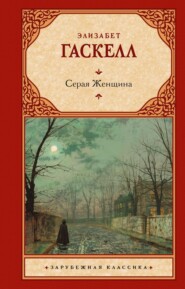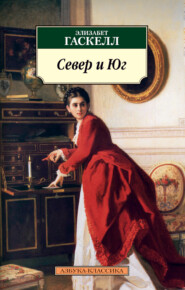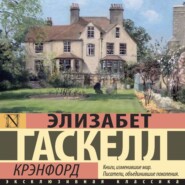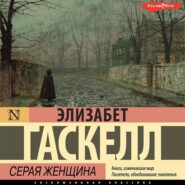По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жены и дочери
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молли взяла записку, но прежде, чем успела развернуть ее, отец сказал:
– Довольно, дорогая, – тебе не надо ее читать. Дай ее мне. Скажи тем, кто тебя послал, Бетайя, что все письма для мисс Молли должны проходить через мои руки. А ты ступай, гусенок, возвращайся к своим делам.
– Папа, я обязательно заставлю тебя сказать, кто мне написал.
– Потом поглядим.
С некоторой неохотой и неудовлетворенным любопытством она отправилась наверх, к мисс Эйр, которая все еще оставалась ее дневной компаньонкой, хотя теперь уже не гувернанткой.
Мистер Гибсон свернул в пустую столовую, закрыл за собой дверь, сломал печать на записке и начал читать. Это было пылкое любовное послание от мистера Кокса, который объявлял, что не в силах более видеть ее день за днем и не сказать ей о страсти, которую она ему внушает, – «страсти навек», как он выразился, что заставило мистера Гибсона, читая, тихо рассмеяться. Не посмотрит ли она на него с добротой? Не подумает ли она о нем, который думает только о ней? И так далее, с очень уместной примесью страстных комплиментов ее красоте. Она не бледная – она светящаяся, ее глаза – путеводные звезды, ее ямочки – следы купидонова пальца и т. д.
Мистер Гибсон кончил читать и задумался. «Кто бы мог предположить, что этот юнец так поэтичен? Ну да, конечно же, в приемной на полке стоит Шекспир. Заберу его оттуда, а вместо него поставлю Джонсонов словарь. Должен сказать, одно утешение – ее несомненная полнейшая невинность, даже, можно сказать, невежество; совершенно очевидно, что это его первое „любовное признание“, как он его называет. Но как же неприятно, что у нее так рано появились воздыхатели! Ведь ей всего семнадцать. Да и семнадцати еще нет – до июля. Шестнадцать и три четверти. Да она же совсем дитя! Правда… бедной Джинни и столько не было, а как я любил ее!» Жену мистера Гибсона звали Мэри – так что он вспомнил, очевидно, кого-то другого. Его мысли вернулись к былым дням, хотя он продолжал держать в руке развернутое письмо. Вскоре взгляд его снова упал на послание, и мысли обратились к настоящему. «Я не буду с ним слишком строг. Только намекну – он достаточно сообразителен, чтобы понять. Бедняга! Если я его выгоню – что, конечно, было бы самым мудрым решением, – ему ведь, пожалуй, некуда будет деваться».
После еще некоторого размышления на ту же тему мистер Гибсон сел за письменный стол и вывел на листе бумаги следующую формулу: «Мастеру Коксу».
(«„Мастер“[15 - Такое обращение было принято в отношении мальчиков, не взрослых мужчин.], конечно, заденет его за живое», – сказал про себя мистер Гибсон, написав это слово.)
R. Verecundiae oz. 1
Fidelitatis Domesticae oz. 1
Reticentiae gr. 3
М. Capiat hane docim ter die in aqua pura[16 - Принимать: Скромности – одну унцию.Преданности дому – одну унцию.Уважения – три грана.Смешать. Принимать эту дозу три раза в день, запивая чистой водой (лат.).].
Р. Гибсон, врач.
Мистер Гибсон улыбнулся немного печально, перечитывая эти слова. «Бедняжка Джинни», – произнес он вслух. Потом он выбрал конверт, вложил в него пылкое послание и вышеприведенный рецепт, запечатал своим перстнем с печаткой, на которой были буквы «R» и «G» в старинном начертании, и помедлил над обозначением адресата.
«Ему не понравится обращение „мастер Кокс“ на конверте. Не надо причинять излишнее унижение». Поэтому конверт был адресован «Эдуарду Коксу, эсквайру».
Затем мистер Гибсон обратился к тому делу, ради которого вернулся домой так своевременно и неожиданно, а покончив с ним, прошел через сад к конюшне и, садясь на лошадь, сказал конюху:
– А кстати. Вот письмо для мистера Кокса. Не передавайте его через женщин, отнесите сами к двери приемной. Сделайте это прямо сейчас.
Слегка улыбаясь, он выехал за ворота, но улыбка исчезла, как только он оказался в безлюдном лабиринте тихих улочек. Он поехал медленнее и задумался. Очень неудобно, что девочка растет и взрослеет без матери, в одном доме с двумя молодыми людьми, даже если они встречаются лишь за столом и общение их ограничивается фразами вроде: «Можно предложить вам картофеля?» – или, как упорно предпочитал говорить мистер Уинн: «Позволите ли порекомендовать вам картофель?» – с каждым днем вызывая у мистера Гибсона все большее раздражение. Однако мистер Кокс, виновник нынешнего происшествия, должен был оставаться в семье мистера Гибсона в качестве ученика еще три года. Он станет последним. Но надо еще как-то дождаться, когда они кончатся, эти три года. А если его глупая, страстная, ребячья влюбленность продлится – что тогда делать? Рано или поздно Молли ее заметит. Обдумывать все непредсказуемые подробности дела было так неприятно, что мистер Гибсон решил усилием воли выбросить эту тему из головы. Он пустил лошадь галопом и обнаружил, что тряская езда по улочкам, мощенным булыжниками, расшатанными за столетие, – лучшее средство для здоровья духа, если не костей. В этот день он сделал множество визитов и вернулся домой, уверенный, что худшее позади и что мистер Кокс принял к сведению намек, заключенный в рецепте. Теперь все, что оставалось сделать, – это найти подходящее место для несчастной Бетайи, которая проявила такую отважную готовность к интригам. Но мистер Гибсон, похоже, недооценил трудностей предприятия.
Обыкновенно молодые люди приходили к семейному чаю в столовую, выпивали по две чашки, жевали хлеб и гренки, а затем исчезали. В этот вечер мистер Гибсон украдкой поглядывал из-под длинных ресниц на их лица, стараясь, против своего обыкновения, сохранять непринужденный тон и поддерживать оживленную беседу на общие темы. Он видел, что мистер Уинн с трудом удерживается от смеха, а лицо и рыжие волосы мистера Кокса пылают яростнее обыкновенного, и весь его вид и поведение выдают возмущение и негодование.
«Ах вот, значит, как», – подумал мистер Гибсон и изготовился к бою. Он не последовал за Молли и мисс Эйр в гостиную, как обычно, а оставался сидеть, делая вид, что читает газету, пока Бетайя, лицо которой распухло от слез, убирала со стола с видом горестным и оскорбленным. Не прошло и пяти минут, как раздался ожидаемый стук в дверь.
– Могу я поговорить с вами, сэр? – спросил невидимый за дверью мистер Кокс.
– Разумеется. Входите, мистер Кокс. Я как раз хотел побеседовать с вами об этом каталоге Корбина. Садитесь, прошу вас.
– Я совсем не об этом, сэр, хотел… желал… Нет, спасибо, я предпочитаю стоять. – И он остался стоять, всем своим видом выражая оскорбленное достоинство. – Я по поводу письма, сэр, – этого письма с оскорбительным предписанием, сэр.
– Оскорбительным предписанием? Меня удивляет подобное слово в применении к любому моему предписанию, хотя, разумеется, пациенты порой бывают оскорблены, когда им сообщают об истинной природе их недуга, а могут счесть оскорбительным и прописанное им лекарство.
– Я не просил вас прописывать мне лекарство.
– Вот как? Тогда, значит, вы – тот самый мастер Кокс, который послал через Бетайю записку? К вашему сведению, это стоило ей места. Вдобавок это очень глупое письмо.
– Такое поведение недостойно джентльмена, сэр, – вы перехватили письмо, вскрыли его и прочли слова, не для вас предназначенные.
– Безусловно, не для меня! – согласился мистер Гибсон, и по его лицу промелькнула легкая улыбка, не замеченная негодующим мистером Коксом. – Когда-то, помню, считалось, что я весьма недурен собой, и смею сказать, я был не меньшим фатом, чем всякий другой в двадцать лет, но даже тогда я едва ли поверил бы, что все эти очаровательные комплименты адресованы мне.
– Это поведение недостойно джентльмена, сэр, – запинаясь, повторил мистер Кокс. Он собирался сказать что-то еще, но мистер Гибсон опередил его:
– И позвольте вам сказать, молодой человек, – в голосе мистера Гибсона появилась внезапная суровость, – что ваш поступок можно извинить, только принимая во внимание ваш юный возраст и крайнее невежество в том, что считается законами семейной чести. Я принял вас в свой дом как члена семьи… вы склонили одну из моих служанок… подкупив ее, несомненно…
– Ей-богу, сэр! Я не давал ей ни пенни.
– Так вам надо было это сделать. Всегда следует платить тем, кто делает за вас грязную работу.
– Только что, сэр, вы назвали это подкупом, – пробормотал мистер Кокс.
Не обращая внимания на его слова, мистер Гибсон продолжал:
– …склонили одну из моих служанок, заставив рисковать своим местом – даже не предложив ей за это ни малейшей компенсации, – тайно передать письмо моей дочери, совсем еще ребенку.
– Мисс Гибсон почти семнадцать лет, сэр! Я сам слышал, как вы это на днях говорили, – возразил двадцатилетний мистер Кокс. И снова мистер Гибсон пропустил мимо ушей его замечание:
– Вам было нежелательно, чтобы это письмо увидел ее отец, который доверился, безусловно, вашей чести, приняв вас в свой дом. Сын вашего отца – я хорошо знаю майора Кокса – должен был прийти ко мне и сказать честно и открыто: «Мистер Гибсон, я люблю – или воображаю, что люблю, – вашу дочь. Я не считаю правильным скрывать это от вас, хотя я не способен заработать ни пенни, и, так как не могу в ближайшие годы рассчитывать на возможность самостоятельно прокормить даже самого себя, я ни слова не скажу о моих чувствах – или моих воображаемых чувствах – самой молодой леди». Вот что должен был сказать сын вашего отца, хотя, разумеется, еще лучше была бы пара гранов сдержанного молчания.
– А если бы я сказал так, сэр… наверно, мне следовало сказать так, – спросил мистер Кокс с торопливым беспокойством, – что бы вы ответили? Вы отнеслись бы с сочувствием к моей любви, сэр?
– Скорее всего, я сказал бы (не поручусь за точность слов в таком гипотетическом случае), что вы – молодой дурак, но не бесчестный молодой дурак и что вам не следует позволять своим мыслям вертеться вокруг вашей ребячьей влюбленности до того, что вы раздуете ее в настоящую страсть. И пожалуй, в порядке компенсации за причиненное, возможно, унижение я порекомендовал бы вам вступить в Холлингфордский крикетный клуб и как можно чаще предоставлял бы вам свободное время по субботам. Но при существующем положении дел я должен написать агенту вашего отца в Лондоне и просить его забрать вас из моего дома. Я верну, разумеется, плату за ваше обучение, что даст вам возможность начать его заново под руководством другого врача.
– Это так огорчит отца! – Слова доктора повергли мистера Кокса если не в раскаяние, то в смятение.
– Я не вижу другого выхода. Это причинит майору Коксу некоторые неудобства (я позабочусь о том, чтобы он не понес лишних расходов), но что, по-моему, огорчит его более всего – это обман доверия, ведь я доверял вам, Эдвард, как родному сыну!
Было в голосе мистера Гибсона, когда он говорил серьезно, особенно если касался какого-нибудь собственного чувства – он, который так редко обнаруживал перед другими, что происходит в его сердце, – нечто неотразимо действующее на людей: переход от шутливости и сарказма к ласковой серьезности.
Мистер Кокс поник головой и задумался.
– Я правда люблю мисс Гибсон, – наконец сказал он. – Кто может справиться с этим чувством?
– Мистер Уинн, я надеюсь.
– Его сердце давно занято, – ответил мистер Кокс. – Мое было свободно как ветер, пока я не увидел ее.
– Поможет ли излечить вашу… ну, скажем, страсть, если мисс Гибсон будет выходить к столу в синих очках? Я заметил, что вы очень подробно останавливаетесь на красоте ее глаз.
– Вы насмехаетесь над моими чувствами, мистер Гибсон. Неужели вы забыли, что сами когда-то были молоды?
«Бедная Джинни» на миг предстала перед глазами мистера Гибсона, и он ощутил легкий укор совести.
– Довольно, дорогая, – тебе не надо ее читать. Дай ее мне. Скажи тем, кто тебя послал, Бетайя, что все письма для мисс Молли должны проходить через мои руки. А ты ступай, гусенок, возвращайся к своим делам.
– Папа, я обязательно заставлю тебя сказать, кто мне написал.
– Потом поглядим.
С некоторой неохотой и неудовлетворенным любопытством она отправилась наверх, к мисс Эйр, которая все еще оставалась ее дневной компаньонкой, хотя теперь уже не гувернанткой.
Мистер Гибсон свернул в пустую столовую, закрыл за собой дверь, сломал печать на записке и начал читать. Это было пылкое любовное послание от мистера Кокса, который объявлял, что не в силах более видеть ее день за днем и не сказать ей о страсти, которую она ему внушает, – «страсти навек», как он выразился, что заставило мистера Гибсона, читая, тихо рассмеяться. Не посмотрит ли она на него с добротой? Не подумает ли она о нем, который думает только о ней? И так далее, с очень уместной примесью страстных комплиментов ее красоте. Она не бледная – она светящаяся, ее глаза – путеводные звезды, ее ямочки – следы купидонова пальца и т. д.
Мистер Гибсон кончил читать и задумался. «Кто бы мог предположить, что этот юнец так поэтичен? Ну да, конечно же, в приемной на полке стоит Шекспир. Заберу его оттуда, а вместо него поставлю Джонсонов словарь. Должен сказать, одно утешение – ее несомненная полнейшая невинность, даже, можно сказать, невежество; совершенно очевидно, что это его первое „любовное признание“, как он его называет. Но как же неприятно, что у нее так рано появились воздыхатели! Ведь ей всего семнадцать. Да и семнадцати еще нет – до июля. Шестнадцать и три четверти. Да она же совсем дитя! Правда… бедной Джинни и столько не было, а как я любил ее!» Жену мистера Гибсона звали Мэри – так что он вспомнил, очевидно, кого-то другого. Его мысли вернулись к былым дням, хотя он продолжал держать в руке развернутое письмо. Вскоре взгляд его снова упал на послание, и мысли обратились к настоящему. «Я не буду с ним слишком строг. Только намекну – он достаточно сообразителен, чтобы понять. Бедняга! Если я его выгоню – что, конечно, было бы самым мудрым решением, – ему ведь, пожалуй, некуда будет деваться».
После еще некоторого размышления на ту же тему мистер Гибсон сел за письменный стол и вывел на листе бумаги следующую формулу: «Мастеру Коксу».
(«„Мастер“[15 - Такое обращение было принято в отношении мальчиков, не взрослых мужчин.], конечно, заденет его за живое», – сказал про себя мистер Гибсон, написав это слово.)
R. Verecundiae oz. 1
Fidelitatis Domesticae oz. 1
Reticentiae gr. 3
М. Capiat hane docim ter die in aqua pura[16 - Принимать: Скромности – одну унцию.Преданности дому – одну унцию.Уважения – три грана.Смешать. Принимать эту дозу три раза в день, запивая чистой водой (лат.).].
Р. Гибсон, врач.
Мистер Гибсон улыбнулся немного печально, перечитывая эти слова. «Бедняжка Джинни», – произнес он вслух. Потом он выбрал конверт, вложил в него пылкое послание и вышеприведенный рецепт, запечатал своим перстнем с печаткой, на которой были буквы «R» и «G» в старинном начертании, и помедлил над обозначением адресата.
«Ему не понравится обращение „мастер Кокс“ на конверте. Не надо причинять излишнее унижение». Поэтому конверт был адресован «Эдуарду Коксу, эсквайру».
Затем мистер Гибсон обратился к тому делу, ради которого вернулся домой так своевременно и неожиданно, а покончив с ним, прошел через сад к конюшне и, садясь на лошадь, сказал конюху:
– А кстати. Вот письмо для мистера Кокса. Не передавайте его через женщин, отнесите сами к двери приемной. Сделайте это прямо сейчас.
Слегка улыбаясь, он выехал за ворота, но улыбка исчезла, как только он оказался в безлюдном лабиринте тихих улочек. Он поехал медленнее и задумался. Очень неудобно, что девочка растет и взрослеет без матери, в одном доме с двумя молодыми людьми, даже если они встречаются лишь за столом и общение их ограничивается фразами вроде: «Можно предложить вам картофеля?» – или, как упорно предпочитал говорить мистер Уинн: «Позволите ли порекомендовать вам картофель?» – с каждым днем вызывая у мистера Гибсона все большее раздражение. Однако мистер Кокс, виновник нынешнего происшествия, должен был оставаться в семье мистера Гибсона в качестве ученика еще три года. Он станет последним. Но надо еще как-то дождаться, когда они кончатся, эти три года. А если его глупая, страстная, ребячья влюбленность продлится – что тогда делать? Рано или поздно Молли ее заметит. Обдумывать все непредсказуемые подробности дела было так неприятно, что мистер Гибсон решил усилием воли выбросить эту тему из головы. Он пустил лошадь галопом и обнаружил, что тряская езда по улочкам, мощенным булыжниками, расшатанными за столетие, – лучшее средство для здоровья духа, если не костей. В этот день он сделал множество визитов и вернулся домой, уверенный, что худшее позади и что мистер Кокс принял к сведению намек, заключенный в рецепте. Теперь все, что оставалось сделать, – это найти подходящее место для несчастной Бетайи, которая проявила такую отважную готовность к интригам. Но мистер Гибсон, похоже, недооценил трудностей предприятия.
Обыкновенно молодые люди приходили к семейному чаю в столовую, выпивали по две чашки, жевали хлеб и гренки, а затем исчезали. В этот вечер мистер Гибсон украдкой поглядывал из-под длинных ресниц на их лица, стараясь, против своего обыкновения, сохранять непринужденный тон и поддерживать оживленную беседу на общие темы. Он видел, что мистер Уинн с трудом удерживается от смеха, а лицо и рыжие волосы мистера Кокса пылают яростнее обыкновенного, и весь его вид и поведение выдают возмущение и негодование.
«Ах вот, значит, как», – подумал мистер Гибсон и изготовился к бою. Он не последовал за Молли и мисс Эйр в гостиную, как обычно, а оставался сидеть, делая вид, что читает газету, пока Бетайя, лицо которой распухло от слез, убирала со стола с видом горестным и оскорбленным. Не прошло и пяти минут, как раздался ожидаемый стук в дверь.
– Могу я поговорить с вами, сэр? – спросил невидимый за дверью мистер Кокс.
– Разумеется. Входите, мистер Кокс. Я как раз хотел побеседовать с вами об этом каталоге Корбина. Садитесь, прошу вас.
– Я совсем не об этом, сэр, хотел… желал… Нет, спасибо, я предпочитаю стоять. – И он остался стоять, всем своим видом выражая оскорбленное достоинство. – Я по поводу письма, сэр, – этого письма с оскорбительным предписанием, сэр.
– Оскорбительным предписанием? Меня удивляет подобное слово в применении к любому моему предписанию, хотя, разумеется, пациенты порой бывают оскорблены, когда им сообщают об истинной природе их недуга, а могут счесть оскорбительным и прописанное им лекарство.
– Я не просил вас прописывать мне лекарство.
– Вот как? Тогда, значит, вы – тот самый мастер Кокс, который послал через Бетайю записку? К вашему сведению, это стоило ей места. Вдобавок это очень глупое письмо.
– Такое поведение недостойно джентльмена, сэр, – вы перехватили письмо, вскрыли его и прочли слова, не для вас предназначенные.
– Безусловно, не для меня! – согласился мистер Гибсон, и по его лицу промелькнула легкая улыбка, не замеченная негодующим мистером Коксом. – Когда-то, помню, считалось, что я весьма недурен собой, и смею сказать, я был не меньшим фатом, чем всякий другой в двадцать лет, но даже тогда я едва ли поверил бы, что все эти очаровательные комплименты адресованы мне.
– Это поведение недостойно джентльмена, сэр, – запинаясь, повторил мистер Кокс. Он собирался сказать что-то еще, но мистер Гибсон опередил его:
– И позвольте вам сказать, молодой человек, – в голосе мистера Гибсона появилась внезапная суровость, – что ваш поступок можно извинить, только принимая во внимание ваш юный возраст и крайнее невежество в том, что считается законами семейной чести. Я принял вас в свой дом как члена семьи… вы склонили одну из моих служанок… подкупив ее, несомненно…
– Ей-богу, сэр! Я не давал ей ни пенни.
– Так вам надо было это сделать. Всегда следует платить тем, кто делает за вас грязную работу.
– Только что, сэр, вы назвали это подкупом, – пробормотал мистер Кокс.
Не обращая внимания на его слова, мистер Гибсон продолжал:
– …склонили одну из моих служанок, заставив рисковать своим местом – даже не предложив ей за это ни малейшей компенсации, – тайно передать письмо моей дочери, совсем еще ребенку.
– Мисс Гибсон почти семнадцать лет, сэр! Я сам слышал, как вы это на днях говорили, – возразил двадцатилетний мистер Кокс. И снова мистер Гибсон пропустил мимо ушей его замечание:
– Вам было нежелательно, чтобы это письмо увидел ее отец, который доверился, безусловно, вашей чести, приняв вас в свой дом. Сын вашего отца – я хорошо знаю майора Кокса – должен был прийти ко мне и сказать честно и открыто: «Мистер Гибсон, я люблю – или воображаю, что люблю, – вашу дочь. Я не считаю правильным скрывать это от вас, хотя я не способен заработать ни пенни, и, так как не могу в ближайшие годы рассчитывать на возможность самостоятельно прокормить даже самого себя, я ни слова не скажу о моих чувствах – или моих воображаемых чувствах – самой молодой леди». Вот что должен был сказать сын вашего отца, хотя, разумеется, еще лучше была бы пара гранов сдержанного молчания.
– А если бы я сказал так, сэр… наверно, мне следовало сказать так, – спросил мистер Кокс с торопливым беспокойством, – что бы вы ответили? Вы отнеслись бы с сочувствием к моей любви, сэр?
– Скорее всего, я сказал бы (не поручусь за точность слов в таком гипотетическом случае), что вы – молодой дурак, но не бесчестный молодой дурак и что вам не следует позволять своим мыслям вертеться вокруг вашей ребячьей влюбленности до того, что вы раздуете ее в настоящую страсть. И пожалуй, в порядке компенсации за причиненное, возможно, унижение я порекомендовал бы вам вступить в Холлингфордский крикетный клуб и как можно чаще предоставлял бы вам свободное время по субботам. Но при существующем положении дел я должен написать агенту вашего отца в Лондоне и просить его забрать вас из моего дома. Я верну, разумеется, плату за ваше обучение, что даст вам возможность начать его заново под руководством другого врача.
– Это так огорчит отца! – Слова доктора повергли мистера Кокса если не в раскаяние, то в смятение.
– Я не вижу другого выхода. Это причинит майору Коксу некоторые неудобства (я позабочусь о том, чтобы он не понес лишних расходов), но что, по-моему, огорчит его более всего – это обман доверия, ведь я доверял вам, Эдвард, как родному сыну!
Было в голосе мистера Гибсона, когда он говорил серьезно, особенно если касался какого-нибудь собственного чувства – он, который так редко обнаруживал перед другими, что происходит в его сердце, – нечто неотразимо действующее на людей: переход от шутливости и сарказма к ласковой серьезности.
Мистер Кокс поник головой и задумался.
– Я правда люблю мисс Гибсон, – наконец сказал он. – Кто может справиться с этим чувством?
– Мистер Уинн, я надеюсь.
– Его сердце давно занято, – ответил мистер Кокс. – Мое было свободно как ветер, пока я не увидел ее.
– Поможет ли излечить вашу… ну, скажем, страсть, если мисс Гибсон будет выходить к столу в синих очках? Я заметил, что вы очень подробно останавливаетесь на красоте ее глаз.
– Вы насмехаетесь над моими чувствами, мистер Гибсон. Неужели вы забыли, что сами когда-то были молоды?
«Бедная Джинни» на миг предстала перед глазами мистера Гибсона, и он ощутил легкий укор совести.