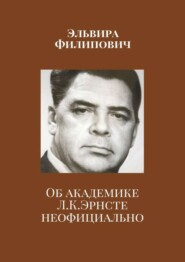По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я, мой муж и наши два отечества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И страшной близостью закованный
Смотрю на темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Я попросила у нее стихи переписать. Она посмотрела на меня так внимательно, нежно и вдруг провела своей ручкой по моим жестким волосам: «Золотые волосы!» — сказала и ласково мне улыбнулась. Я всегда помню ее улыбку…» (Э. Филипович, «От советской пионерки до челнока-пенсионерки», стр. 13, М., «Сатурн С», 2000).
Я окончательно выздоровела и все время чувствовала ужасный голод. К тому же все время было очень холодно. В школе топили чуть-чуть. А в доме, где мы жили, не топили вовсе. А рядом с нашим двором стоял одноэтажный домик с тремя кирпичными стенами и полуразрушенной четвертой, без крыши, без окон и дверей… То ли разрушенный, то ли недостроенный. И рядом с ним высоченная труба и огромная куча слежавшегося мелкого угля. Это была котельная, которую все обещали вот-вот отремонтировать, но на нашей памяти, а мы жили там чуть более двух лет, так и не сделали ничего… Были дела поважнее: восстанавливали главную доменную печь на заводе, а в поселке рядом с нашим возводили новый дом для рабочих. Строили его пленные немцы. На работу, с работы, в столовую шли строем под конвоем. Конвоиры рядом с ними казались низкорослыми и какими-то весьма озабоченными. А немцы все с довольными лицами, особенно после посещения столовой, и всегда пели. О чем пелось в песне, мы не понимали, но припев ее помнится до сих пор, и притом в оригинале:
Айли, айле, айля!
Айли, айле, айля…
Айли! Айле! Айля, айля, айле!
К дому, который строили, мы с Тоней ходили за дровишками, точнее деревянными строительными отходами. Нам их пленные подносили к самой оградке, то есть остистой проволоке. Однажды набрали мы этих дровишек полные сумки. Дома закутанные от холода Мама и Бабушка обрадовались дровишкам, давай скорее вынимать их из глубины сумки. И вдруг отпрянули обе, а у Мамы лицо вдруг побелело, как стенка, и молча она на дощечку показывает, которую я принесла. «Стой! Стреляю!» – написано было на дощечке…
Основным топливом, однако, были не дрова, а уголь. Огромная куча угля лежала никем не охраняемая в нашем дворе, рядом с полуразваленной котельной. Однако в основном это была смешанная с угольной пылью порода, которая в печке только слабо тлеет, не давая тепла. А настоящий уголь, антрацит, который горит так, что плита краснеет от жара и в комнате становится тепло, лежал поодаль от дома, вдоль рельсов, ведущих к мартеновским печам завода «Азовсталь». Но к нему приставлен был сторож с винтовкой, чтобы ни в коем случае замерзшие жители не воспользовались им. Антрацит был предназначен не для людей, а для плавки металла – мощи страны.
Бабушка моя по ночам стонала от боли. Да и днем ее мучил ревматизм, который особенно проявлялся, когда в комнате было холодно. Поэтому я вместе со своей подружкой Тоней темными вечерами ходила по уголек. В моем детском дневнике хождениям по уголек посвящены многие страницы… Гораздо меньше писала я о школе, хотя учителя мне нравились. И когда маме пришла телеграмма от начальника экспедиции Фоменки с требованием немедленно выезжать всей геологической партией в Артемовский район в село Покровское, мы с Бабушкой захандрили. Бабушка – оттого, что снова будем жить у кого-то на частной квартире, а я – из-за предстоящей разлуки с любимой учительницей по русской литературе – нежно красивой, как мечта, Любовью Демьяновной.
Украинское село Покровское, украинская школа
В село Покровское мы прибыли ранней весной перед самым началом школьных каникул.
На станции Деконская вблизи города Артемовска нас ожидала геологическая полуторка. Контора экспедиции находилась в самом начале села, которое протянулось более чем на семь километров вдоль заросшей камышом речки Горелый пень. Хаты, побеленные глиняные мазанки, крытые очеретом, то есть местным камышом, отделенные друг от друга садами-огородами, красиво расположились по обе стороны реки. Окошками хаты смотрят на улицу, а огороды и сады за хатами уходят к реке или, напротив, взбираются кверху, к самому подножию гряды невысоких серых холмов. Холмы все изрезаны глубокими оврагами, в которых полно еще было таявшего снега. А на улице – грязюка, не пройти. Нас поселили в хате, где жили две сестры: с белым рыхлым лицом и расплывшейся фигурой Катерина Озерова и загорелая, с большими руками и широкой рабочей спиной ее младшая сестра Наташа. Обе работали в геологической экспедиции, поэтому нас приняли как своих, уступили нам комнату с отдельным входом, в которой уже приготовлены были взятые со склада экспедиции железные кровати, ватные матрасы, подушки и теплые стеганые одеяла.
Все бы хорошо, но школа – аж за семь километров в соляном шахтерском поселке им. Карла Либкнехта. А в Покровском – только украинская школа, зато на большой переменке дают горячий приварок. Мама повела меня в украинскую школу. Шли мы целый час, то и дело увязая в красновато-желтой глинистой грязи. Ботиночки мои промокли, и мне разрешили их снять и приложить к печке. Сама школа представляла собой просторный одноэтажный дом с тремя большими светлыми комнатами и четвертой комнаткой поменьше, не очень светлой, но зато самой теплой. Здесь когда-то жил священник с семьей и была приходская школа. Сейчас, то есть весной 1947 года, во всех комнатах были классы: пятый, шестой, седьмой и десятый. Восьмой и девятый учились во вторую смену. Нас в пятом классе было человек тридцать, а в десятом всего семь учеников. Держались они по-взрослому солидно и отстраненно и к нам, младшим, относились как к детям, а мы к ним почтительно и с интересом. Мы знали их всех поименно, а потом знали их дальнейшую судьбу. Например, нам было известно, что две девушки, бойкая черноглазая Катя и ее подружка, рослая, чернобровая и тоже красивая Нина, после школы поступили в двухгодичный педагогический на факультет по украинскому языку и литературе, с отличием его закончили и уехали работать учительницами…
В классе меня посадили рядом с теплой печкой и вместе с красивенькой светловолосой девочкой Аллой. А за нами сидели два хлопчика – черноволосый Жан и рыжеватенький Микола, оба худые, большеглазые и почти на голову ниже нас с Аллой ростом. Микола дергал нас за косы, а Жан сидел сонный. Алла сказала, что у Жана дома совсем нечего есть. Карточки в селе не дают, и малые ребята, те, что в школу не ходят, пухнут от голода и помирают. А в школу почти все ходят только ради локшаны, т. е. лапши. Локшану вместе с водичкой, в которой варилась, наливали в тарелки, получалось до самых краев. Мы с жадностью все поглощали и после примерно с час чувствовали сытую приятную сонливость, но потом снова и снова хотелось есть…
А на улице вовсю шла весна. Пели птицы, цвела черемуха, и ужасно хотелось есть. И Жан с Миколой уже не дергали нас за косы, а лежали головами на парте и тихонько мычали от голода. И только звонок на большую перемену поднимал их. Мы все вскакивали и бежали в столовку. Это небольшая хата, метров сто от школы. Бежали наперегонки. Хлопцы орали: «Лок-ша-на! Лок-ша-на-а-а!» и махали ложками, которые у всех были с собой.
На раздаче был наш любимый учитель Алексей Иванович Ена. Он умный и очень начитанный, к тому же все время шутит. Мы очень любили его шутки: даже есть не так хотелось, когда смешно.
А весна уже вовсю шумела молодой листвой, наливалась весенними травами, пела и восторженно орала голосами птиц и лягушек. И чем спорее готовилась к лету природа, тем острее мы чувствовали голод.
Мы ели нераспустившиеся ольховые сережки, лакомились нежными, чуть сладковатыми почками липы, выкапывали сладковатые луковички раста, сдирали с коры вишен «клей». А в двадцатых числах мая ученик шестого класса Вася Стеценко нарвал в посадке незрелых жерделей и с голодухи поел их… Потом страшно мучился животом. Спасти не могли. На поминках были борщ, кукурузные лепешки и узвар из сушеных яблок и вишни. Мы наелись. И было очень обидно за Васю: он всего этого уже не мог есть, так и умер голодным…
У наших хозяев Озеровых было рядом с хатой пятьдесят соток земли. А полагалось каждой сестре иметь по пятнадцать соток, так что двадцать соток были ничейными, и земля зарастала бурьяном. На этой же ничейной земле был роскошный вишневый сад. Когда поспели вишни, я по просьбе Наташи их собирала, а она потом их быстро, чтобы никто не видел, относила себе в погреб. Ничейная земля – это «излишки», которые были почти в каждом дворе. Нам из этих излишков местные власти выделили пятнадцать соток, которые потом Наташа вскопала и засадила фасолью, луком и овощами. Наташа все делала так аппетитно, ловко, что я не могла удержаться, просила дать мне лопату или тяпку и работала тоже. Но, должно быть, неумело и очень смешно, потому что, глядя на меня, она весело смеялась и все повторяла: «Ой, Божечки, ой уморишь…» Зато, когда я легко залезала на деревья и заполняла ведерки «ничейной» вишней, она меня хвалила. Впрочем, немного вишни она велела оставлять на деревьях, «бо якщо прийдуть провиряты, тай побачуть що вишня е, то й усе в порядку» Ну а потом мы садились в тенечек, «шукали вошей» или читали письма от ее геологического мужа, женатого и детного москвича Ивана Садова. Наташа сколько-то лет училась в начальной сельской школе и могла читать напечатанное, но совсем не понимала написанного. Раньше, когда экспедиция вела изыскательские работы непосредственно в окрестностях Покровского, Садов жил вместе с Наташей в той самой комнате, где поселились мы. Потом, когда его посылали на участки, в Макеевку, Горловку, Славянск, Наташа приезжала туда же, работала у него помощником. Официально. И одновременно была признанной всей экспедицией неофициальной женой. Но потом, перед нашим приездом, Садова отозвали на несколько месяцев в Москву, и Наташа писала своему возлюбленному письма. Сначала она просила писать мою Бабушку, и письма были очень короткими и очень правильными, совершенно без любви. Потом письма по ее просьбе писала я. И тут Наташа не стеснялась: «Мий коханый, мий нижный, мий единый у цилим свити…» А потом шли поцелуи. «Цилую твои губы, твои очи а тебе цилого, а главное того малэнького, того найкращого, того коханого…» Я сперва не поняла, кто этот маленький. Наташа мне объяснила: «Цэ той, що у чоловикив промеж ног стоить» «Висит, а не стоит!» – поправила я Наташу. «Стоит! Стоит!» – настаивала Наташа…
Садова эти письма, видимо, вдохновляли на ответные чувства, потому что стал он писать чаще и наконец сообщил Наташе, что скоро его снова пошлют в Донбасс, и они увидятся. Но вслед за этим в экспедиции вспыхнул скандал: из Москвы пришло известие, что Ивана Садова, узколицего тщедушного мужичка, исколошматила его могучего сложения жена. Она же послала начальнику Фоменке Наташино любовное письмо со всякими недозволенными интимностями, написанное моим почерком…
Фома, так заочно звали в экспедиции начальника, вызвал «на ковер» мою маму, и та ужаснулась, какому влиянию со стороны вконец «испорченной» женщины Наташи Озеровой подвергается ее невинное и очень скромное дитя, я то есть. Знала бы она, что многие самые сексуально волнительные эпитеты, действующие на чувства Садова, этого старого козла, как его называла моя бабушка, были придуманы не самой Наташей, а мною! Естественно, самой Наташе эти ее – мои письма нравились. Забегая вперед, расскажу, что чувства геодезиста Садова под воздействием битья туфлей с одной стороны и горячих Наташиных любовных признаний с другой, разгорелись. Садов добился своего перевода в Донбасс. И примерно через три четверти года у помощницы геодезиста Натальи Озеровой родились очаровательные девочки-двойняшки.
Ну а моя мама с целью уберечь меня от влияния сексуальной Наташи буквально на следующий день после вызова Фомы переехала со мной и Бабушкой на новое место, называемое Куток, в хату чуть «тронутой» Марии Курочки. Куток – по-русски угол – представлял собой луг, образованный излучиной реки Горелый пень. В Кутке было всего восемь хат, и почти все их обитатели носили фамилию Курочка.
Хозяйка наша тетя Маруся Курочка, проживавшая одна в просторной хате-мазанке с широкой прихожей, которая делила все жилье на две половинки, была единственным потомком большой работящей украинской семьи.
Всю семью в тридцатые годы выгнали из их родной хаты и в чем были, с детьми и старой бабушкой усадили на тряские телеги и погнали на север. Юную Марию посчитали дурочкой: когда из стоявших в хате сундуков выхватывали расшитые рушники, спидницы, свитки, она сняла с себя свою любимую вышиванку, скинула с ножек новенькие чоботы и все это с детской улыбкой протянула ворвавшимся в их хату краснорожим дядькам… «Дурочку» не тронули. И еще оставили в хате доживать ее больного трясучкой старого деда, который когда-то служил в царской армии и за службу свою не единожды был награжден медалями и крестами…
В горнице, которую тетя Маруся отдала нам, по всем трем стенам висели старинные застекленные иконы, а в самом переднем углу горницы под иконой Богородицы с Младенцем красовалось раскрашенное большое деревянное яйцо – подарок самого царя Николая II. Иконы висели и на стенах Марусиной половины дома, которая была намного меньше нашей. В нашей комнате-горнице помещались три кровати – Мамина, Бабушкина и моя, было два больших стола, и широкая дубовая лавка вдоль противоположной от входа стены. Горница служила еще и конторой Маминой геологоразведочной партии. Придвинутый к лавке стол вечно завален был рулонами с геологическими картами, папками с описями месторождений и отчетами. Здесь же, за этим столом, Мама – начальник – принимала геодезистов, бурмастеров и рабочих с их проблемами, здесь же, когда мы оставались одни своей семьей, рулоны и папки сдвигали в один конец стола и ставили глиняные миски с борщом и кашей. А за вторым, небольшим столом лежали мамины тетрадки с ее творческими записями: набросками романа с красивым названием «Журавль в небе» и стихи, которые она писала в редкие свободные от работы часы и минуты. За этим же столом, придвинутым к окошку, смотрящему в сторону реки Горелый пень и большого заброшенного яблоневого сада, я делала свои уроки…
А по вечерам к нам приходили гости, которых никто не звал. Это были мамины ухажеры, которых она довольно успешно отшивала. Один из них запомнился мне особо. Высокий ростом, в сером плаще и широкополой шляпе, узколицый работник треста, имеющий отношение к экспедиции Фоменко (наверное, в качестве проверяющего). Все разговоры сводил он к тому, как плохо жить в нашей стране и как хорошо живут на Западе. При этом он откуда-то знал мамину подругу Люсю Ивинскую и спросил однажды Маму, где она сейчас. Мама знала, где и с кем, но сказала этому типу, что не знает, а Бабушка, когда он ушел, сказала, что это, наверное, подосланный провокатор.
Я уже знала, что это значит и чем может закончиться, и поэтому читала про себя «Отче наш» – молитву, которой научила меня тетя Маруся.
Вечером этот узколицый снова пришел и снова начал хаять нашу жизнь. А потом он упомянул Сталина. И тогда я пошла в атаку. «Сталин – наш вождь! Мы его любим! А кто Сталина хает – наш враг! Вы – враг!!!» – напустилась я на слюнявого «Гостя». А тот ужасно побледнел и что-то лепетал, что он не враг… Бабушка, однако, сказала, что Эля – пионерка, и очень любит Сталина, и поэтому советует ему, незваному гостю, поскорее удалиться. И он удалился, при этом не только от нас, но исчез и из Покровского. Бабушка меня похвалила, а мама сказала, что и она тоже любит Сталина.
А потом к нам стал приходить молодой бурмастер с деревенским пятиугольным лицом и глубоко посаженными честными глазами.
Бурмастер геологической партии Леонид Сергеевич Кулаков, Батя, 1948 г.
В начале сентября я в Покровском пошла в восьмой класс.
Ко мне за первую парту вместо Аллочки Гладковой посадили девочку по имени Даниэла, которую все мы звали Дуней, хотя на самом деле она назвалась Даней. Имя свое очень тихо сказала. Мы стали переспрашивать, а она молчала. Она вообще все время молчала. И с нами, и у доски. А начинали расспрашивать – плакала. Ее бы, наверное, в младший класс пересадили, но она отлично решала задачи, грамотно писала диктанты… А говорить не могла. Думали даже, что она глухонемая. Потом учитель по немецкому Алексей Иванович разобрался. Он ей сказал, чтобы на его вопросы она отвечала бы молча, кивком головы. Ты окончила семилетку? Вы в школе учили немецкий? У тебя по немецкому отлично? Ты – комсомолка? Ты хочешь стать учительницей? Только на эти два последних вопроса Даня отрицательно крутила головой. На остальные утвердительно кивала. «Ты хорошо все слышишь, – заключил учитель. А почему не говоришь? Не хочешь?» «Не можу», – очень тихо по-украински ответила Даня и залилась слезами…
Потом мы узнали, что ее с младшим братом и матерью, как и все их небольшое тихое селение, пригнали из Западной Украины со всем скарбом и скотиной. Их и еще несколько семей определили в колхоз Чапаево села Покровское. Остальные семьи – кого куда – распределили по району. На «военном деле» физрук, он же военрук, рассказал, что в Донбасс из Западной Украины уже не одно такое село переселили… Там, на Западной Украине, прячутся лютые враги советской власти, коварные и жестокие бандеровцы. Днем они как обычные люди живут, а по ночам убивают всех, кто за колхозы, за советскую власть… И даже не пойми за что убивают: детей, ни в чем не повинных людей, стариков. Местные их знают, но очень боятся. А человеку приезжему не понять, кто из них бандеровец, а кто просто житель. Военрук говорил, а Даня зябко куталась в большой цветастый платок и беззвучно плакала… А вскоре и мы все плакали, вся наша школа, все село. Пришло известие, что бывших десятиклассниц, Катерину и Нину, красивых, совсем еще юных, новоиспеченных учительниц украинского языка, посланных в села Западной Украины, убили бандеровцы…
Ну а Даня заговорила только еще через год. Она перестала вздрагивать от резкого стука, перестала бояться, что «хтось» подстерегает ее, когда она из школы идет. Она с ностальгией рассказывала о притулившемся к лесистой сопке родном селении, о неширокой быстрой речке с прозрачной водой и стайками форелей в ней, о ярких цветах на вершинах сопок… Она очень хотела и очень боялась туда возвращаться. Почему? Позже она открыла причину: там, в родном селе, бандеровцы прямо у них на глазах мучили их любимую учительницу истории. Учеников заставляли плевать ей в лицо. Один мальчик отказался – его избили так, что он умер. А учительницу увели и повесили на школьном дворе.
О том, что после войны еще велась война с бандитами бандеровцами, рассказывал нам также прибывший в том же году новый директор школы и он же учитель русского языка, бывший кавалерист, майор армии Доватора Буларов Николай Степанович.
Первые грезы любви
Среднего роста, поджарый, черноволосый, быстрый, даже стремительный в движениях, с мечтательно вдумчивым взглядом карих глаз под чернющими бровями. Худощавое и очень красивое молодое лицо. Ему еще нет тридцати. И у него пока еще нет жены. И этот факт вдохновлял наших молоденьких незамужних учительниц, они все тоже выглядели как на параде. А через несколько дней моя Бабушка отметила, что я совсем перестала лениться: каждый вечер наглаживаю свою школьную форму, пришиваю белые воротнички и нарукавнички… Ей думалось, что новый директор – очень строгий и заставляет нас быть аккуратными. На самом деле меня никто не заставлял, просто было очень приятно, когда Николай Степанович вызывал меня к доске и ставил в пример всему классу: Я старалась по русскому все-все учить только на «отлично». А бывший майор-фронтовик не только красиво читал новый материал – «Горе от ума», «Евгения Онегина», «Демона», он сам становился героем этих произведений: Чацким, Онегиным, Демоном… И я была во всех этих героев влюблена. И когда я писала сочинение о Татьяне из «Евгения Онегина», Бабушка, прочитав его, сказала, что моя Татьяна еще более страстная и более интересная, чем Татьяна пушкинская…
А в новогодние каникулы директор-учитель Буларов женился. Избранницей стала самая красивая и самая молодая из учительниц – историчка Мария Семеновна. Тоже и на нее, жену моего «Чацкого-Демона», распространились мои любовь и обожание.
Весь учебный год 8-го класса промчался, дивно просверкал и, переполненный самыми горячими и светлыми чувствами, остался в памяти моей навсегда.
Как и в прежние годы, лето перед девятым классом провела я у мамы и отчима Кулакова. Адрес экспедиции – полустанок Казахстан Алтайского края.
Железная дорога, на которой этот полустанок находился, проходила по самой границе между южным Казахстаном и горной частью Алтайского края. К югу от нас расположилась станция Шемонаиха, еще южнее – Алма-Ата, а к северу – Рубцовск, узловая станция, где у меня пересадка на Новосибирск. На самом полустанке всего два деревянных строения: вытянутый вдоль железнодорожного полотна дом с двумя крылечками, одно из которых вело в комнаты, где находилась семья начальника геологоразведочной партии, то есть моей Мамы и ее семьи – Бати (так я звала своего отчима) и братика моего Алешеньки, которому всего было девять месяцев отроду. С другого крылечка, что в самом торце дома, – вход в общежитие девчат, коллекторов и рабочих. А другое строение – маленький домик с палисадником – сторожка стрелочника. Оба дома стояли на Казахстанской земле, и из окон, если смотреть на запад, открывался вид на бескрайнюю, как море, степь. А с востока почти сразу же за железнодорожным полотном поднимались поросшие невысокой серой полынью холмы, переходящие в окутанные лиловатой дымкой горы Алтая.
Днем, когда Мама и Батя уезжали на полуторке в места, где шли геологические изыскания, я сидела со светлоголовым братиком Лешей, который содержался в огромной бельевой корзине. Из нее он всеми силенками старался выбраться.
А вечерами я могла гулять. Вечерами воздух полнился запахом полыни и чабреца и дрожал-звенел от оглушительного цирюканья сверчков. Воздух казался густым: по нему хотелось плыть и лететь, особенно когда в огромном небе ярко сияли звезды и светила луна… Как же мне хотелось тогда, чтобы эту звенящую, дрожащую вселенскую красоту видели тоже Николай Степанович и его красавица жена Мария Семеновна. Они бы ходили по этим холмам, взявшись за руки, а я рядом с ними была бы самой счастливой на свете…
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И страшной близостью закованный
Смотрю на темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Я попросила у нее стихи переписать. Она посмотрела на меня так внимательно, нежно и вдруг провела своей ручкой по моим жестким волосам: «Золотые волосы!» — сказала и ласково мне улыбнулась. Я всегда помню ее улыбку…» (Э. Филипович, «От советской пионерки до челнока-пенсионерки», стр. 13, М., «Сатурн С», 2000).
Я окончательно выздоровела и все время чувствовала ужасный голод. К тому же все время было очень холодно. В школе топили чуть-чуть. А в доме, где мы жили, не топили вовсе. А рядом с нашим двором стоял одноэтажный домик с тремя кирпичными стенами и полуразрушенной четвертой, без крыши, без окон и дверей… То ли разрушенный, то ли недостроенный. И рядом с ним высоченная труба и огромная куча слежавшегося мелкого угля. Это была котельная, которую все обещали вот-вот отремонтировать, но на нашей памяти, а мы жили там чуть более двух лет, так и не сделали ничего… Были дела поважнее: восстанавливали главную доменную печь на заводе, а в поселке рядом с нашим возводили новый дом для рабочих. Строили его пленные немцы. На работу, с работы, в столовую шли строем под конвоем. Конвоиры рядом с ними казались низкорослыми и какими-то весьма озабоченными. А немцы все с довольными лицами, особенно после посещения столовой, и всегда пели. О чем пелось в песне, мы не понимали, но припев ее помнится до сих пор, и притом в оригинале:
Айли, айле, айля!
Айли, айле, айля…
Айли! Айле! Айля, айля, айле!
К дому, который строили, мы с Тоней ходили за дровишками, точнее деревянными строительными отходами. Нам их пленные подносили к самой оградке, то есть остистой проволоке. Однажды набрали мы этих дровишек полные сумки. Дома закутанные от холода Мама и Бабушка обрадовались дровишкам, давай скорее вынимать их из глубины сумки. И вдруг отпрянули обе, а у Мамы лицо вдруг побелело, как стенка, и молча она на дощечку показывает, которую я принесла. «Стой! Стреляю!» – написано было на дощечке…
Основным топливом, однако, были не дрова, а уголь. Огромная куча угля лежала никем не охраняемая в нашем дворе, рядом с полуразваленной котельной. Однако в основном это была смешанная с угольной пылью порода, которая в печке только слабо тлеет, не давая тепла. А настоящий уголь, антрацит, который горит так, что плита краснеет от жара и в комнате становится тепло, лежал поодаль от дома, вдоль рельсов, ведущих к мартеновским печам завода «Азовсталь». Но к нему приставлен был сторож с винтовкой, чтобы ни в коем случае замерзшие жители не воспользовались им. Антрацит был предназначен не для людей, а для плавки металла – мощи страны.
Бабушка моя по ночам стонала от боли. Да и днем ее мучил ревматизм, который особенно проявлялся, когда в комнате было холодно. Поэтому я вместе со своей подружкой Тоней темными вечерами ходила по уголек. В моем детском дневнике хождениям по уголек посвящены многие страницы… Гораздо меньше писала я о школе, хотя учителя мне нравились. И когда маме пришла телеграмма от начальника экспедиции Фоменки с требованием немедленно выезжать всей геологической партией в Артемовский район в село Покровское, мы с Бабушкой захандрили. Бабушка – оттого, что снова будем жить у кого-то на частной квартире, а я – из-за предстоящей разлуки с любимой учительницей по русской литературе – нежно красивой, как мечта, Любовью Демьяновной.
Украинское село Покровское, украинская школа
В село Покровское мы прибыли ранней весной перед самым началом школьных каникул.
На станции Деконская вблизи города Артемовска нас ожидала геологическая полуторка. Контора экспедиции находилась в самом начале села, которое протянулось более чем на семь километров вдоль заросшей камышом речки Горелый пень. Хаты, побеленные глиняные мазанки, крытые очеретом, то есть местным камышом, отделенные друг от друга садами-огородами, красиво расположились по обе стороны реки. Окошками хаты смотрят на улицу, а огороды и сады за хатами уходят к реке или, напротив, взбираются кверху, к самому подножию гряды невысоких серых холмов. Холмы все изрезаны глубокими оврагами, в которых полно еще было таявшего снега. А на улице – грязюка, не пройти. Нас поселили в хате, где жили две сестры: с белым рыхлым лицом и расплывшейся фигурой Катерина Озерова и загорелая, с большими руками и широкой рабочей спиной ее младшая сестра Наташа. Обе работали в геологической экспедиции, поэтому нас приняли как своих, уступили нам комнату с отдельным входом, в которой уже приготовлены были взятые со склада экспедиции железные кровати, ватные матрасы, подушки и теплые стеганые одеяла.
Все бы хорошо, но школа – аж за семь километров в соляном шахтерском поселке им. Карла Либкнехта. А в Покровском – только украинская школа, зато на большой переменке дают горячий приварок. Мама повела меня в украинскую школу. Шли мы целый час, то и дело увязая в красновато-желтой глинистой грязи. Ботиночки мои промокли, и мне разрешили их снять и приложить к печке. Сама школа представляла собой просторный одноэтажный дом с тремя большими светлыми комнатами и четвертой комнаткой поменьше, не очень светлой, но зато самой теплой. Здесь когда-то жил священник с семьей и была приходская школа. Сейчас, то есть весной 1947 года, во всех комнатах были классы: пятый, шестой, седьмой и десятый. Восьмой и девятый учились во вторую смену. Нас в пятом классе было человек тридцать, а в десятом всего семь учеников. Держались они по-взрослому солидно и отстраненно и к нам, младшим, относились как к детям, а мы к ним почтительно и с интересом. Мы знали их всех поименно, а потом знали их дальнейшую судьбу. Например, нам было известно, что две девушки, бойкая черноглазая Катя и ее подружка, рослая, чернобровая и тоже красивая Нина, после школы поступили в двухгодичный педагогический на факультет по украинскому языку и литературе, с отличием его закончили и уехали работать учительницами…
В классе меня посадили рядом с теплой печкой и вместе с красивенькой светловолосой девочкой Аллой. А за нами сидели два хлопчика – черноволосый Жан и рыжеватенький Микола, оба худые, большеглазые и почти на голову ниже нас с Аллой ростом. Микола дергал нас за косы, а Жан сидел сонный. Алла сказала, что у Жана дома совсем нечего есть. Карточки в селе не дают, и малые ребята, те, что в школу не ходят, пухнут от голода и помирают. А в школу почти все ходят только ради локшаны, т. е. лапши. Локшану вместе с водичкой, в которой варилась, наливали в тарелки, получалось до самых краев. Мы с жадностью все поглощали и после примерно с час чувствовали сытую приятную сонливость, но потом снова и снова хотелось есть…
А на улице вовсю шла весна. Пели птицы, цвела черемуха, и ужасно хотелось есть. И Жан с Миколой уже не дергали нас за косы, а лежали головами на парте и тихонько мычали от голода. И только звонок на большую перемену поднимал их. Мы все вскакивали и бежали в столовку. Это небольшая хата, метров сто от школы. Бежали наперегонки. Хлопцы орали: «Лок-ша-на! Лок-ша-на-а-а!» и махали ложками, которые у всех были с собой.
На раздаче был наш любимый учитель Алексей Иванович Ена. Он умный и очень начитанный, к тому же все время шутит. Мы очень любили его шутки: даже есть не так хотелось, когда смешно.
А весна уже вовсю шумела молодой листвой, наливалась весенними травами, пела и восторженно орала голосами птиц и лягушек. И чем спорее готовилась к лету природа, тем острее мы чувствовали голод.
Мы ели нераспустившиеся ольховые сережки, лакомились нежными, чуть сладковатыми почками липы, выкапывали сладковатые луковички раста, сдирали с коры вишен «клей». А в двадцатых числах мая ученик шестого класса Вася Стеценко нарвал в посадке незрелых жерделей и с голодухи поел их… Потом страшно мучился животом. Спасти не могли. На поминках были борщ, кукурузные лепешки и узвар из сушеных яблок и вишни. Мы наелись. И было очень обидно за Васю: он всего этого уже не мог есть, так и умер голодным…
У наших хозяев Озеровых было рядом с хатой пятьдесят соток земли. А полагалось каждой сестре иметь по пятнадцать соток, так что двадцать соток были ничейными, и земля зарастала бурьяном. На этой же ничейной земле был роскошный вишневый сад. Когда поспели вишни, я по просьбе Наташи их собирала, а она потом их быстро, чтобы никто не видел, относила себе в погреб. Ничейная земля – это «излишки», которые были почти в каждом дворе. Нам из этих излишков местные власти выделили пятнадцать соток, которые потом Наташа вскопала и засадила фасолью, луком и овощами. Наташа все делала так аппетитно, ловко, что я не могла удержаться, просила дать мне лопату или тяпку и работала тоже. Но, должно быть, неумело и очень смешно, потому что, глядя на меня, она весело смеялась и все повторяла: «Ой, Божечки, ой уморишь…» Зато, когда я легко залезала на деревья и заполняла ведерки «ничейной» вишней, она меня хвалила. Впрочем, немного вишни она велела оставлять на деревьях, «бо якщо прийдуть провиряты, тай побачуть що вишня е, то й усе в порядку» Ну а потом мы садились в тенечек, «шукали вошей» или читали письма от ее геологического мужа, женатого и детного москвича Ивана Садова. Наташа сколько-то лет училась в начальной сельской школе и могла читать напечатанное, но совсем не понимала написанного. Раньше, когда экспедиция вела изыскательские работы непосредственно в окрестностях Покровского, Садов жил вместе с Наташей в той самой комнате, где поселились мы. Потом, когда его посылали на участки, в Макеевку, Горловку, Славянск, Наташа приезжала туда же, работала у него помощником. Официально. И одновременно была признанной всей экспедицией неофициальной женой. Но потом, перед нашим приездом, Садова отозвали на несколько месяцев в Москву, и Наташа писала своему возлюбленному письма. Сначала она просила писать мою Бабушку, и письма были очень короткими и очень правильными, совершенно без любви. Потом письма по ее просьбе писала я. И тут Наташа не стеснялась: «Мий коханый, мий нижный, мий единый у цилим свити…» А потом шли поцелуи. «Цилую твои губы, твои очи а тебе цилого, а главное того малэнького, того найкращого, того коханого…» Я сперва не поняла, кто этот маленький. Наташа мне объяснила: «Цэ той, що у чоловикив промеж ног стоить» «Висит, а не стоит!» – поправила я Наташу. «Стоит! Стоит!» – настаивала Наташа…
Садова эти письма, видимо, вдохновляли на ответные чувства, потому что стал он писать чаще и наконец сообщил Наташе, что скоро его снова пошлют в Донбасс, и они увидятся. Но вслед за этим в экспедиции вспыхнул скандал: из Москвы пришло известие, что Ивана Садова, узколицего тщедушного мужичка, исколошматила его могучего сложения жена. Она же послала начальнику Фоменке Наташино любовное письмо со всякими недозволенными интимностями, написанное моим почерком…
Фома, так заочно звали в экспедиции начальника, вызвал «на ковер» мою маму, и та ужаснулась, какому влиянию со стороны вконец «испорченной» женщины Наташи Озеровой подвергается ее невинное и очень скромное дитя, я то есть. Знала бы она, что многие самые сексуально волнительные эпитеты, действующие на чувства Садова, этого старого козла, как его называла моя бабушка, были придуманы не самой Наташей, а мною! Естественно, самой Наташе эти ее – мои письма нравились. Забегая вперед, расскажу, что чувства геодезиста Садова под воздействием битья туфлей с одной стороны и горячих Наташиных любовных признаний с другой, разгорелись. Садов добился своего перевода в Донбасс. И примерно через три четверти года у помощницы геодезиста Натальи Озеровой родились очаровательные девочки-двойняшки.
Ну а моя мама с целью уберечь меня от влияния сексуальной Наташи буквально на следующий день после вызова Фомы переехала со мной и Бабушкой на новое место, называемое Куток, в хату чуть «тронутой» Марии Курочки. Куток – по-русски угол – представлял собой луг, образованный излучиной реки Горелый пень. В Кутке было всего восемь хат, и почти все их обитатели носили фамилию Курочка.
Хозяйка наша тетя Маруся Курочка, проживавшая одна в просторной хате-мазанке с широкой прихожей, которая делила все жилье на две половинки, была единственным потомком большой работящей украинской семьи.
Всю семью в тридцатые годы выгнали из их родной хаты и в чем были, с детьми и старой бабушкой усадили на тряские телеги и погнали на север. Юную Марию посчитали дурочкой: когда из стоявших в хате сундуков выхватывали расшитые рушники, спидницы, свитки, она сняла с себя свою любимую вышиванку, скинула с ножек новенькие чоботы и все это с детской улыбкой протянула ворвавшимся в их хату краснорожим дядькам… «Дурочку» не тронули. И еще оставили в хате доживать ее больного трясучкой старого деда, который когда-то служил в царской армии и за службу свою не единожды был награжден медалями и крестами…
В горнице, которую тетя Маруся отдала нам, по всем трем стенам висели старинные застекленные иконы, а в самом переднем углу горницы под иконой Богородицы с Младенцем красовалось раскрашенное большое деревянное яйцо – подарок самого царя Николая II. Иконы висели и на стенах Марусиной половины дома, которая была намного меньше нашей. В нашей комнате-горнице помещались три кровати – Мамина, Бабушкина и моя, было два больших стола, и широкая дубовая лавка вдоль противоположной от входа стены. Горница служила еще и конторой Маминой геологоразведочной партии. Придвинутый к лавке стол вечно завален был рулонами с геологическими картами, папками с описями месторождений и отчетами. Здесь же, за этим столом, Мама – начальник – принимала геодезистов, бурмастеров и рабочих с их проблемами, здесь же, когда мы оставались одни своей семьей, рулоны и папки сдвигали в один конец стола и ставили глиняные миски с борщом и кашей. А за вторым, небольшим столом лежали мамины тетрадки с ее творческими записями: набросками романа с красивым названием «Журавль в небе» и стихи, которые она писала в редкие свободные от работы часы и минуты. За этим же столом, придвинутым к окошку, смотрящему в сторону реки Горелый пень и большого заброшенного яблоневого сада, я делала свои уроки…
А по вечерам к нам приходили гости, которых никто не звал. Это были мамины ухажеры, которых она довольно успешно отшивала. Один из них запомнился мне особо. Высокий ростом, в сером плаще и широкополой шляпе, узколицый работник треста, имеющий отношение к экспедиции Фоменко (наверное, в качестве проверяющего). Все разговоры сводил он к тому, как плохо жить в нашей стране и как хорошо живут на Западе. При этом он откуда-то знал мамину подругу Люсю Ивинскую и спросил однажды Маму, где она сейчас. Мама знала, где и с кем, но сказала этому типу, что не знает, а Бабушка, когда он ушел, сказала, что это, наверное, подосланный провокатор.
Я уже знала, что это значит и чем может закончиться, и поэтому читала про себя «Отче наш» – молитву, которой научила меня тетя Маруся.
Вечером этот узколицый снова пришел и снова начал хаять нашу жизнь. А потом он упомянул Сталина. И тогда я пошла в атаку. «Сталин – наш вождь! Мы его любим! А кто Сталина хает – наш враг! Вы – враг!!!» – напустилась я на слюнявого «Гостя». А тот ужасно побледнел и что-то лепетал, что он не враг… Бабушка, однако, сказала, что Эля – пионерка, и очень любит Сталина, и поэтому советует ему, незваному гостю, поскорее удалиться. И он удалился, при этом не только от нас, но исчез и из Покровского. Бабушка меня похвалила, а мама сказала, что и она тоже любит Сталина.
А потом к нам стал приходить молодой бурмастер с деревенским пятиугольным лицом и глубоко посаженными честными глазами.
Бурмастер геологической партии Леонид Сергеевич Кулаков, Батя, 1948 г.
В начале сентября я в Покровском пошла в восьмой класс.
Ко мне за первую парту вместо Аллочки Гладковой посадили девочку по имени Даниэла, которую все мы звали Дуней, хотя на самом деле она назвалась Даней. Имя свое очень тихо сказала. Мы стали переспрашивать, а она молчала. Она вообще все время молчала. И с нами, и у доски. А начинали расспрашивать – плакала. Ее бы, наверное, в младший класс пересадили, но она отлично решала задачи, грамотно писала диктанты… А говорить не могла. Думали даже, что она глухонемая. Потом учитель по немецкому Алексей Иванович разобрался. Он ей сказал, чтобы на его вопросы она отвечала бы молча, кивком головы. Ты окончила семилетку? Вы в школе учили немецкий? У тебя по немецкому отлично? Ты – комсомолка? Ты хочешь стать учительницей? Только на эти два последних вопроса Даня отрицательно крутила головой. На остальные утвердительно кивала. «Ты хорошо все слышишь, – заключил учитель. А почему не говоришь? Не хочешь?» «Не можу», – очень тихо по-украински ответила Даня и залилась слезами…
Потом мы узнали, что ее с младшим братом и матерью, как и все их небольшое тихое селение, пригнали из Западной Украины со всем скарбом и скотиной. Их и еще несколько семей определили в колхоз Чапаево села Покровское. Остальные семьи – кого куда – распределили по району. На «военном деле» физрук, он же военрук, рассказал, что в Донбасс из Западной Украины уже не одно такое село переселили… Там, на Западной Украине, прячутся лютые враги советской власти, коварные и жестокие бандеровцы. Днем они как обычные люди живут, а по ночам убивают всех, кто за колхозы, за советскую власть… И даже не пойми за что убивают: детей, ни в чем не повинных людей, стариков. Местные их знают, но очень боятся. А человеку приезжему не понять, кто из них бандеровец, а кто просто житель. Военрук говорил, а Даня зябко куталась в большой цветастый платок и беззвучно плакала… А вскоре и мы все плакали, вся наша школа, все село. Пришло известие, что бывших десятиклассниц, Катерину и Нину, красивых, совсем еще юных, новоиспеченных учительниц украинского языка, посланных в села Западной Украины, убили бандеровцы…
Ну а Даня заговорила только еще через год. Она перестала вздрагивать от резкого стука, перестала бояться, что «хтось» подстерегает ее, когда она из школы идет. Она с ностальгией рассказывала о притулившемся к лесистой сопке родном селении, о неширокой быстрой речке с прозрачной водой и стайками форелей в ней, о ярких цветах на вершинах сопок… Она очень хотела и очень боялась туда возвращаться. Почему? Позже она открыла причину: там, в родном селе, бандеровцы прямо у них на глазах мучили их любимую учительницу истории. Учеников заставляли плевать ей в лицо. Один мальчик отказался – его избили так, что он умер. А учительницу увели и повесили на школьном дворе.
О том, что после войны еще велась война с бандитами бандеровцами, рассказывал нам также прибывший в том же году новый директор школы и он же учитель русского языка, бывший кавалерист, майор армии Доватора Буларов Николай Степанович.
Первые грезы любви
Среднего роста, поджарый, черноволосый, быстрый, даже стремительный в движениях, с мечтательно вдумчивым взглядом карих глаз под чернющими бровями. Худощавое и очень красивое молодое лицо. Ему еще нет тридцати. И у него пока еще нет жены. И этот факт вдохновлял наших молоденьких незамужних учительниц, они все тоже выглядели как на параде. А через несколько дней моя Бабушка отметила, что я совсем перестала лениться: каждый вечер наглаживаю свою школьную форму, пришиваю белые воротнички и нарукавнички… Ей думалось, что новый директор – очень строгий и заставляет нас быть аккуратными. На самом деле меня никто не заставлял, просто было очень приятно, когда Николай Степанович вызывал меня к доске и ставил в пример всему классу: Я старалась по русскому все-все учить только на «отлично». А бывший майор-фронтовик не только красиво читал новый материал – «Горе от ума», «Евгения Онегина», «Демона», он сам становился героем этих произведений: Чацким, Онегиным, Демоном… И я была во всех этих героев влюблена. И когда я писала сочинение о Татьяне из «Евгения Онегина», Бабушка, прочитав его, сказала, что моя Татьяна еще более страстная и более интересная, чем Татьяна пушкинская…
А в новогодние каникулы директор-учитель Буларов женился. Избранницей стала самая красивая и самая молодая из учительниц – историчка Мария Семеновна. Тоже и на нее, жену моего «Чацкого-Демона», распространились мои любовь и обожание.
Весь учебный год 8-го класса промчался, дивно просверкал и, переполненный самыми горячими и светлыми чувствами, остался в памяти моей навсегда.
Как и в прежние годы, лето перед девятым классом провела я у мамы и отчима Кулакова. Адрес экспедиции – полустанок Казахстан Алтайского края.
Железная дорога, на которой этот полустанок находился, проходила по самой границе между южным Казахстаном и горной частью Алтайского края. К югу от нас расположилась станция Шемонаиха, еще южнее – Алма-Ата, а к северу – Рубцовск, узловая станция, где у меня пересадка на Новосибирск. На самом полустанке всего два деревянных строения: вытянутый вдоль железнодорожного полотна дом с двумя крылечками, одно из которых вело в комнаты, где находилась семья начальника геологоразведочной партии, то есть моей Мамы и ее семьи – Бати (так я звала своего отчима) и братика моего Алешеньки, которому всего было девять месяцев отроду. С другого крылечка, что в самом торце дома, – вход в общежитие девчат, коллекторов и рабочих. А другое строение – маленький домик с палисадником – сторожка стрелочника. Оба дома стояли на Казахстанской земле, и из окон, если смотреть на запад, открывался вид на бескрайнюю, как море, степь. А с востока почти сразу же за железнодорожным полотном поднимались поросшие невысокой серой полынью холмы, переходящие в окутанные лиловатой дымкой горы Алтая.
Днем, когда Мама и Батя уезжали на полуторке в места, где шли геологические изыскания, я сидела со светлоголовым братиком Лешей, который содержался в огромной бельевой корзине. Из нее он всеми силенками старался выбраться.
А вечерами я могла гулять. Вечерами воздух полнился запахом полыни и чабреца и дрожал-звенел от оглушительного цирюканья сверчков. Воздух казался густым: по нему хотелось плыть и лететь, особенно когда в огромном небе ярко сияли звезды и светила луна… Как же мне хотелось тогда, чтобы эту звенящую, дрожащую вселенскую красоту видели тоже Николай Степанович и его красавица жена Мария Семеновна. Они бы ходили по этим холмам, взявшись за руки, а я рядом с ними была бы самой счастливой на свете…