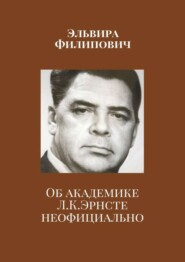По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я, мой муж и наши два отечества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мама Эдика спросила нас, будем ли мы пить чай из травок, и всыпала их прямо в чайник. Мы пили травяной чай из солдатских кружек, прикусывая его ржаными сухариками и кусочками подсушенной печеной тыквы. Бабушка угостила тыквой Эдика и его маму, а та дала нам три леденцовых конфетки, а потом мордастая тетка, сидящая справа, та самая, что была похожа на ведьму и дико орала, стараясь не пускать нас в вагон, с мирной улыбкой тянула к нам свою большую руку с угощением – пресной лепешкой, которую она называла мацой… Вскоре мы перезнакомились: почти все обитатели вагона были евреями и возвращались из эвакуации, из Саратовской области, к себе на Украину. Нам они удивлялись, что едем почти без вещей, все допытывались, куда мы их дели. А потом бабушка рассказывала, как мы все, что было у нас, постепенно выменяли за продукты. А одежда – дело наживное. Тоже и мама сказала, что главное, что живы мы, а одежду – как приедут на место, все получат спецовку… И это правда. В Донбассе нам с бабушкой, как членам семьи геологической экспедиции, выдали ватные ушанки, фуфайки и парусиновые ботинки. Все, кроме шапок, было огромного размера и болталось на мне, как на вешалке. Правда, фуфайку бабушка предельно обузила «по фигуре» и только с рукавами не ладилось: они, как два огромных хобота, свисали чуть ли ни до самого пола. Бабушка и рукава укоротила. Она все-все умела делать: и шить, и гадать, и сказки рассказывать… И утешать, если у кого горе. А оно кричало, выло и, стиснув зубы, молчало в каждой семье…
Здесь, в вагоне, Бабушку мою вскоре обступили женщины, молодые, пожилые и совсем юные, просили погадать на червонного короля. И только одна, светло-русая с голубыми глазами на красивом лице, тоже еврейка, стояла рядом и угрюмо молчала.
Про нее мы потом узнали: одна она осталась… Муж, брат, старший сын погибли на фронте, а жена брата с детьми решила не уезжать из родного селения, где-то в Сумской области. Полон дом детей у нее, да огороды, да скотина… Предложила она и золовке своей, этой вот самой женщине, дочку свою в их семье оставить… Когда немцы всех евреев сгоняли, а их в том селении несколько семей было, дочку этой женщины тоже сперва забрали, а потом немец ее, голубоглазую, светленькую, из того загона взашей прогнал… Соседи украинцы ее приютили. Так через пару дней, когда родню ее угнали уже, убили, наверное, один из сельчан, пожилой, тоже украинец, заявился в комендатуру, сказал, что та девочка с голубыми глазами – еврейка. Взяли и ее… И ведь никакой выгоды от этого не было иуде старому… Хотел было с немцами бежать, да кто-то, наверное сами немцы, пристрелили его как собаку, валялся он за деревней прямо на дороге…
Поезд вскоре снова остановился, и снова перед нами сплошь покрытое покореженной и местами проржавелой военной техникой Сталинградское поле и диковинного вида черные руины Сталинграда на самом горизонте. И такие же столбики с дощечками и предупреждающими надписями на них: «Осторожно: мины!» Поезд медленно двигался, больше стоял, чем шел. И на всех стоянках мы с Эдиком бегали за кипятком, и не только себе, но и другим, кто просил…
В Дебальцево прибыли мы утром на третьи сутки. Поразило меня множество рельсов и огромнейший мост, точнее почерневший остов моста над ними, и еще зубчатые, похожие в утренней полутьме на какие-то причудливые замки, руины города…
Мама уже сходила в просторную деревянную будку, служившую вокзалом вместо разбомбленного, закомпостировала билеты в город Алчевск и повела Бабушку по нужде, наказав мне смотреть за чемоданом. Я смотрела, не отрываясь, и вдруг увидела, что чемодан исчез…
Мама горько плакала. Люди ее утешали: все Ваши с Вами, а вещи, даже самые дорогие – наживете еще. «Там не вещи были, там дневники мои… За много лет», – призналась мне Мама. Я очень хотела, чтобы она перестала плакать, до этого я никогда не видела ее слез. «Что мне сделать, чтобы ты засмеялась?» – спросила я ее, чтобы успокоить. «Начни писать дневник», – ответила она «А вот и начну! Только покажи, как его и на чем пишут», – сказала я. И Мамочка моя рассмеялась. Но потом дала мне небольшой блокнотик, почти уже весь израсходованный, и, уже успокоившись, рассказала, как это делается.
В Алчевске
Наконец, город Алчевск. Мы очень удивились тому, что город почти нисколько не пострадал от войны – уютный, зеленый.
Писать свой дневник начала я сразу, как только мы в Алчевске поселились на квартире у Дегтяревых, у которых было две комнаты и трое детей. Правда, старшая, черноволосая красавица Люба, которая уже училась в техникуме, домой только наведывалась, а жила у подруги. А ее сестра Таня, девочка моих лет, и трехлетний Андрюша расположились в комнате-кухне, а нас поселили в горнице, большой и холодной. Нам, правда, разрешалось открывать дверь, и мы впускали тепло и вдыхали ароматы готовящейся еды: украинского борща и разных каш, чаще всего из кукурузной крупы. Особенно нравился мне запах луково-помидорной заправки для борща: напоминало запах мяса, которого мы не ели очень долгое время. Мы тоже на той плите готовили, когда было из чего, а ели в своей комнате за большим столом. И когда случалось у нас что-то вкусное, например, картофельный суп с лапшой, к нам в холодную комнату приходил совершенно голый и босой Андрюша и радостно провозглашал: «А я – вот он!» – и при этом в руках всегда ложку свою держал. Бабушка называла его молодцом, протирала влажным полотенцем его всегда теплые ладошки и сажала за стол…
Был в нашей комнате еще и другой стол, поменьше. На нем всегда кучились мамины бумаги, которые строго запрещалось трогать. Мама работала за ним вечерами и писала в самодельную тетрадку. Мне она тоже выделила немножечко казенной бумаги, предназначенной для записи геологических съемок. Бабушка сшила мне из нарезанных листочков этой бумаги тетрадку, и я тоже писала дневник. Я вспоминала и описывала, как мы ехали. Мама похвалила меня, назвала «писателем» (после сказала, что это шутка), и я решила написать рассказ, который назвала «Партизанка». Живьем партизан я не видела, но много читала о них и очень гордилась подвигом Зои Космодемьянской… Описывая подвиг девушки Ани, героини моего рассказа, я, кажется, о всех пытках написала, о которых читала или слышала по радио. Этими пытками мучили фашисты нежную девушку, а она геройски молчала… Писала и заливалась слезами. А потом прочитала свой рассказ хозяйской девочке Тане. Плакала и она. А бабушка по-доброму улыбалась и гладила по голове, и только мама сказала, что надо писать о том, что увидишь собственными глазами, и посоветовала рассказов больше не писать, а только дневник. А мне, помню, дневник вести вовсе неинтересно было, и писала я его лишь ради Мамы, и то далеко не каждый день. Старалась притом записи делать как можно короче, потому что мерзли руки и без конца хотелось есть…
На городском базаре можно было купить муки. Самой выгодной была кукурузная. Из нее варили мамалыгу, то есть жидкую кашу, которую потом заливали в миски или тарелки, где она застывала, и ее можно было резать как холодец. Двенадцатилетняя Таня эту мамалыгу носила продавать на маленький рабочий рынок рядом со столовой, где работала посудомойкой ее мама. «Из одного стакана муки получается четыре порции мамалыги, за которые, если продать, можно потом купить целых четыре стакана муки», – говорила она мне.
Однажды, когда Мама была в командировке, мы с Бабушкой решили попробовать: купили на последние деньги пять стаканов кукурузной муки и, посчитав ожидаемую прибыль, сварили большущую кастрюлю мамалыги. Потом разлили ее по столовским мискам, которых у хозяев наших было много, и оставили остывать. Получилась полная корзинка целых и половинных кругов мамалыги, которые мне предстояло продать.
На базарчике мы с Таней стояли рядом, и ее мамалыгу хорошо брали. А у меня купили только одну половинку. Таня успокаивала: ничего, сейчас кончится смена и придут рабочие, купят и твою… И вдруг она же: «Мамалыгу спрячь! Скорей!» И тут я увидела мальчишек в казенной серой одежде с бледными худыми лицами и голодным блеском в глазах… Когда я поняла и начала было убирать в корзинку свою мамалыгу, разложенную на постеленную прямо на земле газету, множество рук завертелось, заплясало прямо у меня перед глазами. Исчезла газетка с нарезанными кусками, опустела корзинка, а мальчишки вмиг умчались. Я видела, как один из них убегая запихивал себе в рот мою мамалыгу… Бабушка меня утешала, а Танина мама налила нам целую миску замечательного украинского борща. А вскоре вернулась из командировки Мама и сказала, что ее геологическую партию посылают в Мариуполь, и там получим мы комнату, свою, без всяких хозяев. А перед этим у меня еще была одна нежданная радость: в алчевскую школу №3, где я училась в третьем классе, привезли детские вещи, одежду и обувь, подарок от английских рабочих. Тех, у кого погибли на войне отцы, вызывали первыми, и они могли себе подарок выбрать. Я была в числе семерых счастливчиков и могла выбрать себе туфли или платье. Выбирать было мучительно, потому что не было у меня ни настоящего платья, ни туфель. Я выбрала платье, шерстяное, коричневое, красивое, которое было мне довольно велико, что обрадовало мою Бабушку. Она сказала, что мне еще расти и расти, и платье это будет мне впору. Ну, а в парусиновых ботинках – я решила, что еще похожу…
Мариупольские руины и рынок, ордер на комнату. Семиряга. Третий раз в третий класс
Мариуполь поразил меня своими руинами и сказочно богатым базаром. Длиннющие базарные полки ломились от съестного. Настоящие белые булочки, кринки с арьяном под аппетитно запеченной пенкой, соленые огурчики и запеченные куски рыбы, блюдца с тюлькой самого разного посола и свежайшая рыба, которую продавали сами рыбаки. Мы купили крупную сулку с красными жабрами и «свежими», то есть незамутненными глазами, и пошли в контору огромнейшего завода «Азовсталь». Маме выдали обещанный ордер на комнату в квартире дома заводского участка №2. В ту пору, в марте 1945 года, было на втором участке всего четыре четырехэтажных корпуса одного-единственного дома. Комната наша обозначена в третьем подъезде на четвертом этаже первого корпуса. Пришли туда, а там живет какая-то тетка и не хочет нас пускать. У нее маленькая комнатка рядом, а она захватила обе, свою и нашу, а потом, когда мама стала требовать, эта тетка сказала, что так и быть, отдаст нам одну и предложила свою маленькую. И тогда вышла в коридор соседка из еще одной маленькой комнаты и стала тетку, захватившую нашу большую комнату, стыдить. В конце концов мы в свою большую комнату вселились. Первую ночь спали все кучей на полу, прикрываясь своими одежками и соседкиным очень истертым, но все равно замечательным ватным одеялом. Мы были счастливы: наконец-то никаких над нами хозяев, мы сами – владельцы нашей комнаты! А на другой день Мама с утра пошла к заказчику своей геологической партии, начальству завода Азовсталь, и нам в тот же день привезли и поставили три железных койки и к ним три настоящих ватных матраса и три – тоже ватных – подушки, и еще квадратный стол и четыре стула. А потом очень высокий и очень худой рабочий из маминой геологической партии по фамилии Семиряга притащил со склада огромный узел с одеялами, простынями-наволочками и большущие алюминиевые кастрюлю, сковородку и чайник… А после еще тот же Семиряга раздобыл где-то и принес нам целую большую охапку дровишек и помог Бабушке растопить нашу плиту… В плите загудело, в комнате стало почти тепло, а Семиряга все продолжал держать над раскаленной плитой свои огромные ладони, а потом уселся рядом и спросил у Бабушки, можно ли ему у нас немного побыть, потому что нет сил подняться, так как он сегодня, да и вчера тоже, ничего не ел.
А у нас тогда не было хлеба, не успели еще карточки получить, но было немного кукурузной крупы, и была сулка, которую мама, перед тем как бежать по делам, сунула в ванную комнату, которая служила общей кладовкой. Бабушка об этом вспомнила и решила отрезать у сулки голову и хвост, чтобы что-то сварить нам и хоть чуточку покормить этого Семирягу, чтобы у него появились силы подняться и уйти. Однако для супа нужна вода, а ее не было. За водой люди ходили во двор, где была колонка. Вода была чуть солоновата, но в супах и кашах это терялось, а за водой для питьевого кипятка, чая, ходили в старогреческую деревню, где совсем рядом с морем находился глубоченный бакай (маленькое, вытянутое вдоль берега моря озерцо с чистейшей ключевой водой). Суп – рыбью голову и хвост, залитые водой из колонки, бабушка, посетовав на то, что нет ни лука, ни картошки, заправила кукурузной мукой, так что получилась жидкая кашица, наподобие мамалыги. Мне и себе Бабушка дала по маленькой мисочке, а этому дядьке – целую большую мисищу. Мы еще ели весьма непривычного вкуса суп, а Семиряга уже и донышко облизал, демонстративно так. И Бабушка налила ему еще. И он снова – хоп – и нет супа. А потом и еще налила добавки, а когда спохватилась, супа осталось на самом донышке. А Семиряга и не думал уходить, сидел, вытянув к печке свои длинные ноги, довольный, как кот: вот-вот замурлычет… Рассказывал о себе.
Родом из рыбачьего поселка где-то за Енисеем. До войны рыбачил, охотился. Даже и на медведя ходил. А потом на фронт призвали, и он в пулеметных войсках был. Бывало, что там, где и лошадь не утянет, он из грязюки орудие вытаскивал, и вместе с лошадью. А потом контузило его, и все перед глазами черным стало. И долго не слышал ничего. А память и до сих пор не вернулась вполне. Помнит, что дом их бревенчатый стоял на краю поселка. А какого, как назывался поселок, не помнил. И жены имя забыл. Тоже и детей… То ли трое их было, то ли четверо. И как кого звали? Да он и себя не помнил, как звали, а только это: Семиряга… То ли прозвище это, то ли фамилия. А документы все потерялись.
Мы с Бабушкой ему очень сочувствовали, но с нетерпением ждали, когда он уйдет, потому что бабушке надо было из геологической бумаги сшить для меня целых три тетрадки, а мне – собраться в школу, которая, как мы уже знали, находится на третьем участке в двух километрах от нас.
Семиряга ушел, скорее даже выскочил, когда Мама появилась в дверях: «Он должен был после обеда с рабочими шурфы копать. И взять пробы керна. А он…» «Он был очень голодный!» – вступилась за Семирягу Бабушка. Мама бабушке немного за этого Семирягу попеняла, что, мол, нельзя привечать кого хорошо не знаешь, а об этом человеке известно лишь то, что сам он о себе говорит. А он порой вообще лепечет что-то невнятное… Сразу же скажу, что если бы не Мама, быть бы этому Семиряге, этой, скорее всего, безвинной жертве войны, за колючей проволокой, где-нибудь в ГУЛАГе вместе с такими же, как он, «утратившими доверие страны» бедолагами… Мама, еще работая на Урале в так называемой зоне, добилась, чтобы этого рабочего зэка, которого давали геологам по разнарядке, перевели бы в геологоразведочную партию на постоянной основе.
Мама попробовала суп, который почти целиком поглотил Семиряга, и поморщилась, однако подъела все и стала на новой сковородке жарить сулку, благо сегодня ей удалось не только получить хлеб за целых два дня, но и отоварить комбижир и конфеты-подушечки.
Мы пировали!
А наутро Мама отвела меня в школу, уже третью за 1944—1945 учебный год.
Я все еще в третьем классе, на этот раз в настоящей школе, за настоящей партой. Нас в классе 25 девочек. Мальчишки учатся в той же школе, но в другой части этого большого трехэтажного здания, которое перегорожено на две половинки: школы женскую и мужскую. Вход в здание тоже раздельный, а школьный двор – огромный, огороженный невысоким штакетником – общий. Во дворе две спортплощадки: для девочек с волейбольной сеткой, а для мальчишек – с футбольными воротами. Играли мы, однако, все вместе, а старшеклассники еще и «крутили любовь». В нашей половине здания кроме просторной раздевалки был еще и большой спортивный зал с еще невиданными мною гимнастическими козлами, лестницами и другими снарядами, и еще была школьная столовая, где нам на большой переменке давали суп, обычно гороховый, и перловую или кукурузную кашу с комбижиром. Дома мне Мама сказала, что такой, как наша школа, нет во всем Мариуполе, потому что у нас шефы – завод Азовсталь.
В первый же день я подружилась с очень хорошей девочкой Валей Маликовой, мы с ней сидели за одной партой. А однажды после школы я пошла к ней в гости, чтобы вместе историю учить, потому что у нас один учебник на двоих. Жили они с мамой в том же доме и тоже на четвертом этаже, только в другом корпусе. Окна их выходили на море. Красота невероятная! Мы никак не могли оторваться и взяться за учебник…
А на улице уже сирень зацветала и вовсю щебетали птицы, и было очень радостно от того, что мы наступаем. Как обычно, каждое утро ловили мы голос Левитана: «От Советского Информбюро». Красная армия уже давно за границами СССР, уже почти всю Европу освободила, а война все длится, и все приходят похоронки. Тоже и Левитан после слов о победах и освобождении перечисляет имена погибших, командиров, конечно. А погибших солдат всех и не перечислишь, их много.
Кончилась война
Утро 9 мая началось как обычно с голоса Левитана, четкого и торжественного:
«Приказ Верховного Главнокомандующего…
8 мая 1945 года в Берлине представитель Верховного Командования подписал акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.
В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям и частям Военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует победоносная Красная армия и Военно-морской флот!»
Голос Левитана, который напряженно и в полном молчании слушали обитатели нашего дома, вдруг потонул в радостных криках «ура» и звуках надрывных рыданий… Люди обнимались, поздравляли друг друга с Победой и плакали…
Вот запись от 10 мая 1945 года из моего дневника.
«Вчера кончилась война. Орали репродукторы на всю улицу, а у нас во всех комнатах тихо всхлипывали: у тети Веры — похоронка на руках, а у тети Маши — ни похоронки, ни письма вот уже четыре месяца… Баба тоже поплакала. А потом давай на Маму наседать: «Скорей надо в свою квартиру ехать, в Покровское-Стрешнево». — «Да ведь нас не пустят в квартиру. Там живут. Эн-ка-вэ-дэшник!» А Баба не сдается: «Хоть в коридоре будем. А то куда же Владик вернется?» — и плачет. Мама тоже слезы вытирает, но так, чтобы не видела Баба. Владик, родной мамин брат, пропал без вести с весны сорок второго. Должно быть, погиб. Тогда почти все ополченцы погибли… Но Баба уверяет Маму, что Владик живой, она это сердцем чувствует. Кое-как Мама Бабу успокоила: на тот случай, если вернется Владик, она предупредила Софью Абрамовну, соседку нашу, и друга. Оставила ей наш мариупольский адрес.
К вечеру в комнату к нам одна за другой шли соседки и другие женщины. Все зареванные. С виноватыми улыбками просили Бабу «кинуть карты». Баба раскладывала карты и каждую по очереди уверяла, что живой, что приедет… Успокоенные соседки наприносили конфеток. Накипятили чаю и весело стали друг дружку поздравлять с концом войны. А потом песни пели и снова плакали».
(Опубликовано в книге: «От советской пионерки до челнока-пенсионерки (Мой дневник)», М., «Сатурн С» 2000 г.
Кончилась война (фото из интернета)
Американские подарки – коробки со сладким мясом
Я и мои ровесники, все ожидали какого-то радостного чуда, о котором мечталось еще в Соколовке: вот кончится война – наедимся вдоволь: хлеба, мяса, сосисок… Чего только не рисовалось нашему голодному воображению! А мы после Победы все продолжали получать буханку хлеба с маленьким довеском на семью в день и пятьсот граммов сахара и жиров, и по килограмму круп на человека в месяц. Правда, к этому прибавились американские подарки – картонные коробки со съестным. У меня все внутри замирало, когда их открывали. Пачки с галетами, банки с маринованными огурчиками, всевозможные пудинги в ярких упаковочках и, наконец, объемистая металлическая банка с изображением на ней очень аппетитного мяса. Мама открыла эту чудесную банку специально приделанным к ней ключиком, и вот это дивно привлекательное мясо у нас в мисках. Я положила в рот небольшой кусочек и сейчас же его выплюнула: вместо ожидаемого мяса – какое-то сладкое, резко пахнущее чем-то нездешним его видимое подобие. Есть такую гадость? Было очень обидно, и я заплакала. Мама старалась меня утешить, говорила, что это у них – у американцев – деликатес, мол, она где-то об этом читала. И что у нас просто привычка к другому мясу… И даже показывала на собственном примере, что есть его можно. Однако в ее глазах я видела слезы. И только Бабушка бодро сказала, что ведь эти мясные кусочки можно залить водой, и сахар из мяса уйдет… Однако сахар так и не ушел. И мы, крепко посолив и помазав сладкие кусочки горчицей, все же съели это американское мясо. А Бабушка еще долго старалась «объяснить» американцам, какой должна быть их продуктовая посылка: вместо пудингов, кексов и крекера – муки или крупы манной, а вместо сладкого мяса – сухой колбасы или обычной мясной тушенки. Да и овощей маринованных не надо, а лучше бы свиного сальца, если у них оно есть… Конечно, все эти пожелания так и повисли в воздухе одной нашей комнаты, а в подарочной американской коробке, которую выдали нам и в следующий месяц, снова были пудинг и кексы в ярких обертках, и было сладкое мясо. Но это уже не было для нас горькой неожиданностью, и мы приноровились его съедать.
Кормились морем, согревались потихоньку взятыми со стройки деревяшками и предназначенным заводу «Азовсталь» антрацитом
А с наступлением лета мы стали кормиться морем. В нашем подъезде этажом ниже проживала моя подружка Тоня. Мама ее работала посудомойкой в заводской столовой, и у них в дополнение к обычному пайку случались объедки, которые на самом деле объедками не были, потому что в столовой съедалось все подчистую. А были это припрятанные поваром и завстоловой сэкономленные вареные овощи и даже кусочки жилистого мяса, предназначенного для борща, а также и бывавшая по праздникам выпечка. Из всего этого порой перепадало и посудомойке Евдокии, работящей и доброй Тониной маме, а она нередко делилась с нами: по воскресеньям приносила какой-нибудь съедобный гостинчик и просила Бабушку ей погадать. Похоронка ей на мужа и Тониного отца пришла еще в начале войны, но она все надеялась на чудо и просила кинуть карты как на живого червонного короля. По картам и впрямь выходило все хорошо: перед червонным королем – дальние дороги, и пока не домой… И Евдокия, всплакнув, показывала уже в который раз фотографию, где рослый молодой мужчина прижимает к себе неказистую Евдокию… Тоня, по словам тети Дуси, была живой копией отца: светло-русые волосы, голубые в темных ресницах глаза, прямой носик и чистый овал лица. При этом очень деятельная, мамина помощница. Однажды она позвала меня идти за тюлькой на море. Там, прознала она, рыбаки пригоняют полные лодки тюльки и потом лопатами перекидывают ее в специальные металлические ящики, которые затем отвозят на консервный завод. А в лодках, глубоких и длинных, остается еще столько этой рыбешки, что хватает на всю ватагу набежавших с самодельными ведрышками мальчишек и девчонок. Мы с Тоней чистили, то есть освобождали от тюльки, налепившейся ко дну и к высоким бортам, лодки, складывая эти остатки себе в ведрышки, которые сделаны были из больших консервных банок. Тары нам не хватило, и остатки пришлось бросить крикливым и вечно несытым чайкам. А лодку полагалось еще и как следует помыть тряпками. Дома эту тюльку мы, чуть присолив, ели сырой. А на следующий день снова поход к морю, и снова полные ведерушки тюльки. А потом Тонина мама решила, что тюльку надо солить и блюдечками продавать на нашем рабочем базарчике…
И вот мы с Тоней стоим на базарчике по обе стороны темноволосой беременной тети. Блюдечко с тюлькой она держит у себя на огромном животе. А наши блюдечки – на постеленных прямо на земле тряпочках. Покупатели – заводские рабочие. Пробуют тюльку у всех, а покупают у Тони, а у меня попробуют и плюются: пересолено… Я попробовала тюльку у моей подружки – малосоленая и чуточку с тухлинкой. Домой Тоня пришла с пустым ведерышком, а у меня было почти полное… Решили в следующий раз поменьше солить. И опять лучше всего брали у Тони, хотя тюлька наша по вкусу была одинаковой: всю рыбку солила Тонина мама. Решили мы с Бабушкой еще меньше солить и чтобы побольше было тухлинки. И вот снова стоим. У меня тюльку один дядька попробовал и покрутил головой, а купил у Тони. А другой дядька понюхал и целым блюдечком мне в лицо залепил: «Сама тухлятину свою ешь!» Тюлька у меня на лбу, в волосах… Мухи на меня ринулись… Дома Бабушка сказала, что перестарались мы в малосолении: от тюльки разило тухлым яйцом и ее пришлось выкинуть. А мне Бабушка помыла голову мылом со щелоком.
Не умру я!
А вскоре я заболела. После простуды, которая быстро прошла, я вдруг почувствовала, что у меня болит подмышкой. Там выросла гуля величиной с куриное яйцо. И по вечерам поднималась температура 37,5 и познабливало. Мне к подмышке ставили припарки – нагретые до горячего отруби, соль, золу… Ничего не помогало… И мне велено было лежать и лежать. Тоня наведывалась ко мне каждый день и приносила гостинчики: морковку, яблочко, огурчик… А я ей читала книжки. Она любила сказки о прекрасных царевнах, но сама не читала. Бабушка за нами приглядывала и вдруг сделала «открытие»: Тоня совсем не умеет читать. У нее была, оказывается, феноменальная память, она помнила слово в слово целые страницы… Бабушка взялась ее учить… И вот уже все пошли в школу, а я все лежу, болею… И однажды посетила нас медсестра. Осмотрев меня, она наклонилась к Бабушке и зашептала ей на ушко, что Эля, то есть я, уже не встанет и скоро умрет… И Бабушка, поняв, что я все слышала, скорей ее прогнала, а сама села за шитье, и я видела, как она почти беззвучно плакала. Мне стало ее ужасно жалко. «Не умру я! Вот увидишь, не умру. Завтра же встану!» И на другой день я действительно встала. Ночью сошло с меня «семь потов», и наутро была нормальная температура и перестало болеть подмышкой. Зато из случайно содранной маленькой болячки вдруг начал выходить густой желтоватый гной. «Много и совсем без крови!» – радовалась Бабушка, а я почувствовала дивную легкость в теле и встала… И захотелось скорее на улицу: бегать, прыгать, летать…
В школе было интересно: в пятом классе разные учителя. Все хорошие. Больше всего мне нравились языки: украинский, французский и, конечно, русский. Учительница по русскому языку и литературе Любовь Демьяновна стала первой моей любовью, нежностью и даже страстью. Вот запись из дневника за 16 января 1947 года.
«В первый раз я пишу о ней, хотя думаю каждую минуту. Она — мое солнышко, мое море, моя мечта. Как бы я хотела быть сильным рыцарем, свершать подвиги, защищать ее и ловить на себе еенежность! Она читает стихи, она много нам читает стихов и смотрит куда-то вдаль. Меня совсем не видит… У нее красивые платья с острыми плечиками и кружевными воротничками. Она и сама, кажется, сделана из кружев, из заморской туманной дали. Она читает стихи Блока о «Незнакомке», а мне думается: стихи о ней самой.
…Дыша духами и туманами
Здесь, в вагоне, Бабушку мою вскоре обступили женщины, молодые, пожилые и совсем юные, просили погадать на червонного короля. И только одна, светло-русая с голубыми глазами на красивом лице, тоже еврейка, стояла рядом и угрюмо молчала.
Про нее мы потом узнали: одна она осталась… Муж, брат, старший сын погибли на фронте, а жена брата с детьми решила не уезжать из родного селения, где-то в Сумской области. Полон дом детей у нее, да огороды, да скотина… Предложила она и золовке своей, этой вот самой женщине, дочку свою в их семье оставить… Когда немцы всех евреев сгоняли, а их в том селении несколько семей было, дочку этой женщины тоже сперва забрали, а потом немец ее, голубоглазую, светленькую, из того загона взашей прогнал… Соседи украинцы ее приютили. Так через пару дней, когда родню ее угнали уже, убили, наверное, один из сельчан, пожилой, тоже украинец, заявился в комендатуру, сказал, что та девочка с голубыми глазами – еврейка. Взяли и ее… И ведь никакой выгоды от этого не было иуде старому… Хотел было с немцами бежать, да кто-то, наверное сами немцы, пристрелили его как собаку, валялся он за деревней прямо на дороге…
Поезд вскоре снова остановился, и снова перед нами сплошь покрытое покореженной и местами проржавелой военной техникой Сталинградское поле и диковинного вида черные руины Сталинграда на самом горизонте. И такие же столбики с дощечками и предупреждающими надписями на них: «Осторожно: мины!» Поезд медленно двигался, больше стоял, чем шел. И на всех стоянках мы с Эдиком бегали за кипятком, и не только себе, но и другим, кто просил…
В Дебальцево прибыли мы утром на третьи сутки. Поразило меня множество рельсов и огромнейший мост, точнее почерневший остов моста над ними, и еще зубчатые, похожие в утренней полутьме на какие-то причудливые замки, руины города…
Мама уже сходила в просторную деревянную будку, служившую вокзалом вместо разбомбленного, закомпостировала билеты в город Алчевск и повела Бабушку по нужде, наказав мне смотреть за чемоданом. Я смотрела, не отрываясь, и вдруг увидела, что чемодан исчез…
Мама горько плакала. Люди ее утешали: все Ваши с Вами, а вещи, даже самые дорогие – наживете еще. «Там не вещи были, там дневники мои… За много лет», – призналась мне Мама. Я очень хотела, чтобы она перестала плакать, до этого я никогда не видела ее слез. «Что мне сделать, чтобы ты засмеялась?» – спросила я ее, чтобы успокоить. «Начни писать дневник», – ответила она «А вот и начну! Только покажи, как его и на чем пишут», – сказала я. И Мамочка моя рассмеялась. Но потом дала мне небольшой блокнотик, почти уже весь израсходованный, и, уже успокоившись, рассказала, как это делается.
В Алчевске
Наконец, город Алчевск. Мы очень удивились тому, что город почти нисколько не пострадал от войны – уютный, зеленый.
Писать свой дневник начала я сразу, как только мы в Алчевске поселились на квартире у Дегтяревых, у которых было две комнаты и трое детей. Правда, старшая, черноволосая красавица Люба, которая уже училась в техникуме, домой только наведывалась, а жила у подруги. А ее сестра Таня, девочка моих лет, и трехлетний Андрюша расположились в комнате-кухне, а нас поселили в горнице, большой и холодной. Нам, правда, разрешалось открывать дверь, и мы впускали тепло и вдыхали ароматы готовящейся еды: украинского борща и разных каш, чаще всего из кукурузной крупы. Особенно нравился мне запах луково-помидорной заправки для борща: напоминало запах мяса, которого мы не ели очень долгое время. Мы тоже на той плите готовили, когда было из чего, а ели в своей комнате за большим столом. И когда случалось у нас что-то вкусное, например, картофельный суп с лапшой, к нам в холодную комнату приходил совершенно голый и босой Андрюша и радостно провозглашал: «А я – вот он!» – и при этом в руках всегда ложку свою держал. Бабушка называла его молодцом, протирала влажным полотенцем его всегда теплые ладошки и сажала за стол…
Был в нашей комнате еще и другой стол, поменьше. На нем всегда кучились мамины бумаги, которые строго запрещалось трогать. Мама работала за ним вечерами и писала в самодельную тетрадку. Мне она тоже выделила немножечко казенной бумаги, предназначенной для записи геологических съемок. Бабушка сшила мне из нарезанных листочков этой бумаги тетрадку, и я тоже писала дневник. Я вспоминала и описывала, как мы ехали. Мама похвалила меня, назвала «писателем» (после сказала, что это шутка), и я решила написать рассказ, который назвала «Партизанка». Живьем партизан я не видела, но много читала о них и очень гордилась подвигом Зои Космодемьянской… Описывая подвиг девушки Ани, героини моего рассказа, я, кажется, о всех пытках написала, о которых читала или слышала по радио. Этими пытками мучили фашисты нежную девушку, а она геройски молчала… Писала и заливалась слезами. А потом прочитала свой рассказ хозяйской девочке Тане. Плакала и она. А бабушка по-доброму улыбалась и гладила по голове, и только мама сказала, что надо писать о том, что увидишь собственными глазами, и посоветовала рассказов больше не писать, а только дневник. А мне, помню, дневник вести вовсе неинтересно было, и писала я его лишь ради Мамы, и то далеко не каждый день. Старалась притом записи делать как можно короче, потому что мерзли руки и без конца хотелось есть…
На городском базаре можно было купить муки. Самой выгодной была кукурузная. Из нее варили мамалыгу, то есть жидкую кашу, которую потом заливали в миски или тарелки, где она застывала, и ее можно было резать как холодец. Двенадцатилетняя Таня эту мамалыгу носила продавать на маленький рабочий рынок рядом со столовой, где работала посудомойкой ее мама. «Из одного стакана муки получается четыре порции мамалыги, за которые, если продать, можно потом купить целых четыре стакана муки», – говорила она мне.
Однажды, когда Мама была в командировке, мы с Бабушкой решили попробовать: купили на последние деньги пять стаканов кукурузной муки и, посчитав ожидаемую прибыль, сварили большущую кастрюлю мамалыги. Потом разлили ее по столовским мискам, которых у хозяев наших было много, и оставили остывать. Получилась полная корзинка целых и половинных кругов мамалыги, которые мне предстояло продать.
На базарчике мы с Таней стояли рядом, и ее мамалыгу хорошо брали. А у меня купили только одну половинку. Таня успокаивала: ничего, сейчас кончится смена и придут рабочие, купят и твою… И вдруг она же: «Мамалыгу спрячь! Скорей!» И тут я увидела мальчишек в казенной серой одежде с бледными худыми лицами и голодным блеском в глазах… Когда я поняла и начала было убирать в корзинку свою мамалыгу, разложенную на постеленную прямо на земле газету, множество рук завертелось, заплясало прямо у меня перед глазами. Исчезла газетка с нарезанными кусками, опустела корзинка, а мальчишки вмиг умчались. Я видела, как один из них убегая запихивал себе в рот мою мамалыгу… Бабушка меня утешала, а Танина мама налила нам целую миску замечательного украинского борща. А вскоре вернулась из командировки Мама и сказала, что ее геологическую партию посылают в Мариуполь, и там получим мы комнату, свою, без всяких хозяев. А перед этим у меня еще была одна нежданная радость: в алчевскую школу №3, где я училась в третьем классе, привезли детские вещи, одежду и обувь, подарок от английских рабочих. Тех, у кого погибли на войне отцы, вызывали первыми, и они могли себе подарок выбрать. Я была в числе семерых счастливчиков и могла выбрать себе туфли или платье. Выбирать было мучительно, потому что не было у меня ни настоящего платья, ни туфель. Я выбрала платье, шерстяное, коричневое, красивое, которое было мне довольно велико, что обрадовало мою Бабушку. Она сказала, что мне еще расти и расти, и платье это будет мне впору. Ну, а в парусиновых ботинках – я решила, что еще похожу…
Мариупольские руины и рынок, ордер на комнату. Семиряга. Третий раз в третий класс
Мариуполь поразил меня своими руинами и сказочно богатым базаром. Длиннющие базарные полки ломились от съестного. Настоящие белые булочки, кринки с арьяном под аппетитно запеченной пенкой, соленые огурчики и запеченные куски рыбы, блюдца с тюлькой самого разного посола и свежайшая рыба, которую продавали сами рыбаки. Мы купили крупную сулку с красными жабрами и «свежими», то есть незамутненными глазами, и пошли в контору огромнейшего завода «Азовсталь». Маме выдали обещанный ордер на комнату в квартире дома заводского участка №2. В ту пору, в марте 1945 года, было на втором участке всего четыре четырехэтажных корпуса одного-единственного дома. Комната наша обозначена в третьем подъезде на четвертом этаже первого корпуса. Пришли туда, а там живет какая-то тетка и не хочет нас пускать. У нее маленькая комнатка рядом, а она захватила обе, свою и нашу, а потом, когда мама стала требовать, эта тетка сказала, что так и быть, отдаст нам одну и предложила свою маленькую. И тогда вышла в коридор соседка из еще одной маленькой комнаты и стала тетку, захватившую нашу большую комнату, стыдить. В конце концов мы в свою большую комнату вселились. Первую ночь спали все кучей на полу, прикрываясь своими одежками и соседкиным очень истертым, но все равно замечательным ватным одеялом. Мы были счастливы: наконец-то никаких над нами хозяев, мы сами – владельцы нашей комнаты! А на другой день Мама с утра пошла к заказчику своей геологической партии, начальству завода Азовсталь, и нам в тот же день привезли и поставили три железных койки и к ним три настоящих ватных матраса и три – тоже ватных – подушки, и еще квадратный стол и четыре стула. А потом очень высокий и очень худой рабочий из маминой геологической партии по фамилии Семиряга притащил со склада огромный узел с одеялами, простынями-наволочками и большущие алюминиевые кастрюлю, сковородку и чайник… А после еще тот же Семиряга раздобыл где-то и принес нам целую большую охапку дровишек и помог Бабушке растопить нашу плиту… В плите загудело, в комнате стало почти тепло, а Семиряга все продолжал держать над раскаленной плитой свои огромные ладони, а потом уселся рядом и спросил у Бабушки, можно ли ему у нас немного побыть, потому что нет сил подняться, так как он сегодня, да и вчера тоже, ничего не ел.
А у нас тогда не было хлеба, не успели еще карточки получить, но было немного кукурузной крупы, и была сулка, которую мама, перед тем как бежать по делам, сунула в ванную комнату, которая служила общей кладовкой. Бабушка об этом вспомнила и решила отрезать у сулки голову и хвост, чтобы что-то сварить нам и хоть чуточку покормить этого Семирягу, чтобы у него появились силы подняться и уйти. Однако для супа нужна вода, а ее не было. За водой люди ходили во двор, где была колонка. Вода была чуть солоновата, но в супах и кашах это терялось, а за водой для питьевого кипятка, чая, ходили в старогреческую деревню, где совсем рядом с морем находился глубоченный бакай (маленькое, вытянутое вдоль берега моря озерцо с чистейшей ключевой водой). Суп – рыбью голову и хвост, залитые водой из колонки, бабушка, посетовав на то, что нет ни лука, ни картошки, заправила кукурузной мукой, так что получилась жидкая кашица, наподобие мамалыги. Мне и себе Бабушка дала по маленькой мисочке, а этому дядьке – целую большую мисищу. Мы еще ели весьма непривычного вкуса суп, а Семиряга уже и донышко облизал, демонстративно так. И Бабушка налила ему еще. И он снова – хоп – и нет супа. А потом и еще налила добавки, а когда спохватилась, супа осталось на самом донышке. А Семиряга и не думал уходить, сидел, вытянув к печке свои длинные ноги, довольный, как кот: вот-вот замурлычет… Рассказывал о себе.
Родом из рыбачьего поселка где-то за Енисеем. До войны рыбачил, охотился. Даже и на медведя ходил. А потом на фронт призвали, и он в пулеметных войсках был. Бывало, что там, где и лошадь не утянет, он из грязюки орудие вытаскивал, и вместе с лошадью. А потом контузило его, и все перед глазами черным стало. И долго не слышал ничего. А память и до сих пор не вернулась вполне. Помнит, что дом их бревенчатый стоял на краю поселка. А какого, как назывался поселок, не помнил. И жены имя забыл. Тоже и детей… То ли трое их было, то ли четверо. И как кого звали? Да он и себя не помнил, как звали, а только это: Семиряга… То ли прозвище это, то ли фамилия. А документы все потерялись.
Мы с Бабушкой ему очень сочувствовали, но с нетерпением ждали, когда он уйдет, потому что бабушке надо было из геологической бумаги сшить для меня целых три тетрадки, а мне – собраться в школу, которая, как мы уже знали, находится на третьем участке в двух километрах от нас.
Семиряга ушел, скорее даже выскочил, когда Мама появилась в дверях: «Он должен был после обеда с рабочими шурфы копать. И взять пробы керна. А он…» «Он был очень голодный!» – вступилась за Семирягу Бабушка. Мама бабушке немного за этого Семирягу попеняла, что, мол, нельзя привечать кого хорошо не знаешь, а об этом человеке известно лишь то, что сам он о себе говорит. А он порой вообще лепечет что-то невнятное… Сразу же скажу, что если бы не Мама, быть бы этому Семиряге, этой, скорее всего, безвинной жертве войны, за колючей проволокой, где-нибудь в ГУЛАГе вместе с такими же, как он, «утратившими доверие страны» бедолагами… Мама, еще работая на Урале в так называемой зоне, добилась, чтобы этого рабочего зэка, которого давали геологам по разнарядке, перевели бы в геологоразведочную партию на постоянной основе.
Мама попробовала суп, который почти целиком поглотил Семиряга, и поморщилась, однако подъела все и стала на новой сковородке жарить сулку, благо сегодня ей удалось не только получить хлеб за целых два дня, но и отоварить комбижир и конфеты-подушечки.
Мы пировали!
А наутро Мама отвела меня в школу, уже третью за 1944—1945 учебный год.
Я все еще в третьем классе, на этот раз в настоящей школе, за настоящей партой. Нас в классе 25 девочек. Мальчишки учатся в той же школе, но в другой части этого большого трехэтажного здания, которое перегорожено на две половинки: школы женскую и мужскую. Вход в здание тоже раздельный, а школьный двор – огромный, огороженный невысоким штакетником – общий. Во дворе две спортплощадки: для девочек с волейбольной сеткой, а для мальчишек – с футбольными воротами. Играли мы, однако, все вместе, а старшеклассники еще и «крутили любовь». В нашей половине здания кроме просторной раздевалки был еще и большой спортивный зал с еще невиданными мною гимнастическими козлами, лестницами и другими снарядами, и еще была школьная столовая, где нам на большой переменке давали суп, обычно гороховый, и перловую или кукурузную кашу с комбижиром. Дома мне Мама сказала, что такой, как наша школа, нет во всем Мариуполе, потому что у нас шефы – завод Азовсталь.
В первый же день я подружилась с очень хорошей девочкой Валей Маликовой, мы с ней сидели за одной партой. А однажды после школы я пошла к ней в гости, чтобы вместе историю учить, потому что у нас один учебник на двоих. Жили они с мамой в том же доме и тоже на четвертом этаже, только в другом корпусе. Окна их выходили на море. Красота невероятная! Мы никак не могли оторваться и взяться за учебник…
А на улице уже сирень зацветала и вовсю щебетали птицы, и было очень радостно от того, что мы наступаем. Как обычно, каждое утро ловили мы голос Левитана: «От Советского Информбюро». Красная армия уже давно за границами СССР, уже почти всю Европу освободила, а война все длится, и все приходят похоронки. Тоже и Левитан после слов о победах и освобождении перечисляет имена погибших, командиров, конечно. А погибших солдат всех и не перечислишь, их много.
Кончилась война
Утро 9 мая началось как обычно с голоса Левитана, четкого и торжественного:
«Приказ Верховного Главнокомандующего…
8 мая 1945 года в Берлине представитель Верховного Командования подписал акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.
В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям и частям Военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует победоносная Красная армия и Военно-морской флот!»
Голос Левитана, который напряженно и в полном молчании слушали обитатели нашего дома, вдруг потонул в радостных криках «ура» и звуках надрывных рыданий… Люди обнимались, поздравляли друг друга с Победой и плакали…
Вот запись от 10 мая 1945 года из моего дневника.
«Вчера кончилась война. Орали репродукторы на всю улицу, а у нас во всех комнатах тихо всхлипывали: у тети Веры — похоронка на руках, а у тети Маши — ни похоронки, ни письма вот уже четыре месяца… Баба тоже поплакала. А потом давай на Маму наседать: «Скорей надо в свою квартиру ехать, в Покровское-Стрешнево». — «Да ведь нас не пустят в квартиру. Там живут. Эн-ка-вэ-дэшник!» А Баба не сдается: «Хоть в коридоре будем. А то куда же Владик вернется?» — и плачет. Мама тоже слезы вытирает, но так, чтобы не видела Баба. Владик, родной мамин брат, пропал без вести с весны сорок второго. Должно быть, погиб. Тогда почти все ополченцы погибли… Но Баба уверяет Маму, что Владик живой, она это сердцем чувствует. Кое-как Мама Бабу успокоила: на тот случай, если вернется Владик, она предупредила Софью Абрамовну, соседку нашу, и друга. Оставила ей наш мариупольский адрес.
К вечеру в комнату к нам одна за другой шли соседки и другие женщины. Все зареванные. С виноватыми улыбками просили Бабу «кинуть карты». Баба раскладывала карты и каждую по очереди уверяла, что живой, что приедет… Успокоенные соседки наприносили конфеток. Накипятили чаю и весело стали друг дружку поздравлять с концом войны. А потом песни пели и снова плакали».
(Опубликовано в книге: «От советской пионерки до челнока-пенсионерки (Мой дневник)», М., «Сатурн С» 2000 г.
Кончилась война (фото из интернета)
Американские подарки – коробки со сладким мясом
Я и мои ровесники, все ожидали какого-то радостного чуда, о котором мечталось еще в Соколовке: вот кончится война – наедимся вдоволь: хлеба, мяса, сосисок… Чего только не рисовалось нашему голодному воображению! А мы после Победы все продолжали получать буханку хлеба с маленьким довеском на семью в день и пятьсот граммов сахара и жиров, и по килограмму круп на человека в месяц. Правда, к этому прибавились американские подарки – картонные коробки со съестным. У меня все внутри замирало, когда их открывали. Пачки с галетами, банки с маринованными огурчиками, всевозможные пудинги в ярких упаковочках и, наконец, объемистая металлическая банка с изображением на ней очень аппетитного мяса. Мама открыла эту чудесную банку специально приделанным к ней ключиком, и вот это дивно привлекательное мясо у нас в мисках. Я положила в рот небольшой кусочек и сейчас же его выплюнула: вместо ожидаемого мяса – какое-то сладкое, резко пахнущее чем-то нездешним его видимое подобие. Есть такую гадость? Было очень обидно, и я заплакала. Мама старалась меня утешить, говорила, что это у них – у американцев – деликатес, мол, она где-то об этом читала. И что у нас просто привычка к другому мясу… И даже показывала на собственном примере, что есть его можно. Однако в ее глазах я видела слезы. И только Бабушка бодро сказала, что ведь эти мясные кусочки можно залить водой, и сахар из мяса уйдет… Однако сахар так и не ушел. И мы, крепко посолив и помазав сладкие кусочки горчицей, все же съели это американское мясо. А Бабушка еще долго старалась «объяснить» американцам, какой должна быть их продуктовая посылка: вместо пудингов, кексов и крекера – муки или крупы манной, а вместо сладкого мяса – сухой колбасы или обычной мясной тушенки. Да и овощей маринованных не надо, а лучше бы свиного сальца, если у них оно есть… Конечно, все эти пожелания так и повисли в воздухе одной нашей комнаты, а в подарочной американской коробке, которую выдали нам и в следующий месяц, снова были пудинг и кексы в ярких обертках, и было сладкое мясо. Но это уже не было для нас горькой неожиданностью, и мы приноровились его съедать.
Кормились морем, согревались потихоньку взятыми со стройки деревяшками и предназначенным заводу «Азовсталь» антрацитом
А с наступлением лета мы стали кормиться морем. В нашем подъезде этажом ниже проживала моя подружка Тоня. Мама ее работала посудомойкой в заводской столовой, и у них в дополнение к обычному пайку случались объедки, которые на самом деле объедками не были, потому что в столовой съедалось все подчистую. А были это припрятанные поваром и завстоловой сэкономленные вареные овощи и даже кусочки жилистого мяса, предназначенного для борща, а также и бывавшая по праздникам выпечка. Из всего этого порой перепадало и посудомойке Евдокии, работящей и доброй Тониной маме, а она нередко делилась с нами: по воскресеньям приносила какой-нибудь съедобный гостинчик и просила Бабушку ей погадать. Похоронка ей на мужа и Тониного отца пришла еще в начале войны, но она все надеялась на чудо и просила кинуть карты как на живого червонного короля. По картам и впрямь выходило все хорошо: перед червонным королем – дальние дороги, и пока не домой… И Евдокия, всплакнув, показывала уже в который раз фотографию, где рослый молодой мужчина прижимает к себе неказистую Евдокию… Тоня, по словам тети Дуси, была живой копией отца: светло-русые волосы, голубые в темных ресницах глаза, прямой носик и чистый овал лица. При этом очень деятельная, мамина помощница. Однажды она позвала меня идти за тюлькой на море. Там, прознала она, рыбаки пригоняют полные лодки тюльки и потом лопатами перекидывают ее в специальные металлические ящики, которые затем отвозят на консервный завод. А в лодках, глубоких и длинных, остается еще столько этой рыбешки, что хватает на всю ватагу набежавших с самодельными ведрышками мальчишек и девчонок. Мы с Тоней чистили, то есть освобождали от тюльки, налепившейся ко дну и к высоким бортам, лодки, складывая эти остатки себе в ведрышки, которые сделаны были из больших консервных банок. Тары нам не хватило, и остатки пришлось бросить крикливым и вечно несытым чайкам. А лодку полагалось еще и как следует помыть тряпками. Дома эту тюльку мы, чуть присолив, ели сырой. А на следующий день снова поход к морю, и снова полные ведерушки тюльки. А потом Тонина мама решила, что тюльку надо солить и блюдечками продавать на нашем рабочем базарчике…
И вот мы с Тоней стоим на базарчике по обе стороны темноволосой беременной тети. Блюдечко с тюлькой она держит у себя на огромном животе. А наши блюдечки – на постеленных прямо на земле тряпочках. Покупатели – заводские рабочие. Пробуют тюльку у всех, а покупают у Тони, а у меня попробуют и плюются: пересолено… Я попробовала тюльку у моей подружки – малосоленая и чуточку с тухлинкой. Домой Тоня пришла с пустым ведерышком, а у меня было почти полное… Решили в следующий раз поменьше солить. И опять лучше всего брали у Тони, хотя тюлька наша по вкусу была одинаковой: всю рыбку солила Тонина мама. Решили мы с Бабушкой еще меньше солить и чтобы побольше было тухлинки. И вот снова стоим. У меня тюльку один дядька попробовал и покрутил головой, а купил у Тони. А другой дядька понюхал и целым блюдечком мне в лицо залепил: «Сама тухлятину свою ешь!» Тюлька у меня на лбу, в волосах… Мухи на меня ринулись… Дома Бабушка сказала, что перестарались мы в малосолении: от тюльки разило тухлым яйцом и ее пришлось выкинуть. А мне Бабушка помыла голову мылом со щелоком.
Не умру я!
А вскоре я заболела. После простуды, которая быстро прошла, я вдруг почувствовала, что у меня болит подмышкой. Там выросла гуля величиной с куриное яйцо. И по вечерам поднималась температура 37,5 и познабливало. Мне к подмышке ставили припарки – нагретые до горячего отруби, соль, золу… Ничего не помогало… И мне велено было лежать и лежать. Тоня наведывалась ко мне каждый день и приносила гостинчики: морковку, яблочко, огурчик… А я ей читала книжки. Она любила сказки о прекрасных царевнах, но сама не читала. Бабушка за нами приглядывала и вдруг сделала «открытие»: Тоня совсем не умеет читать. У нее была, оказывается, феноменальная память, она помнила слово в слово целые страницы… Бабушка взялась ее учить… И вот уже все пошли в школу, а я все лежу, болею… И однажды посетила нас медсестра. Осмотрев меня, она наклонилась к Бабушке и зашептала ей на ушко, что Эля, то есть я, уже не встанет и скоро умрет… И Бабушка, поняв, что я все слышала, скорей ее прогнала, а сама села за шитье, и я видела, как она почти беззвучно плакала. Мне стало ее ужасно жалко. «Не умру я! Вот увидишь, не умру. Завтра же встану!» И на другой день я действительно встала. Ночью сошло с меня «семь потов», и наутро была нормальная температура и перестало болеть подмышкой. Зато из случайно содранной маленькой болячки вдруг начал выходить густой желтоватый гной. «Много и совсем без крови!» – радовалась Бабушка, а я почувствовала дивную легкость в теле и встала… И захотелось скорее на улицу: бегать, прыгать, летать…
В школе было интересно: в пятом классе разные учителя. Все хорошие. Больше всего мне нравились языки: украинский, французский и, конечно, русский. Учительница по русскому языку и литературе Любовь Демьяновна стала первой моей любовью, нежностью и даже страстью. Вот запись из дневника за 16 января 1947 года.
«В первый раз я пишу о ней, хотя думаю каждую минуту. Она — мое солнышко, мое море, моя мечта. Как бы я хотела быть сильным рыцарем, свершать подвиги, защищать ее и ловить на себе еенежность! Она читает стихи, она много нам читает стихов и смотрит куда-то вдаль. Меня совсем не видит… У нее красивые платья с острыми плечиками и кружевными воротничками. Она и сама, кажется, сделана из кружев, из заморской туманной дали. Она читает стихи Блока о «Незнакомке», а мне думается: стихи о ней самой.
…Дыша духами и туманами