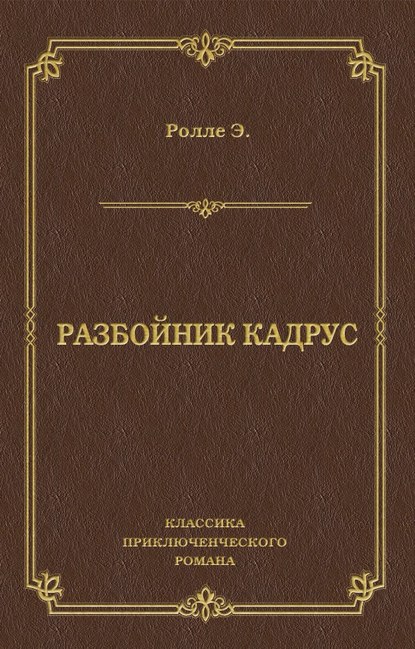По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разбойник Кадрус
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О, какая низость! – прошептал Жорж. – Увлечь с собой в круг бесславия молодую и безукоризненную девушку, которая ничего не понимает в жизни!
– А чего церемониться? – ответил Фоконьяк. – Отчего не поступить с нею, как с другими? Когда она тебе надоест, брось ее. Разница только та, что у этой девочки, говорят, миллионов тридцать. Взять такое приданое что-нибудь да значит. Притом чтобы промотать подобное состояние, нужно много времени, так что ты долго будешь составлять счастье твоей инфанты…
– Никогда! – перебил его Жорж. – Никогда не сделаю я подобной гнусности… Я даже запрещаю тебе говорить мне о Жанне.
Тон, которым были произнесены эти последние слова, заставил Фоконьяка замолчать. Он только подумал: «Решительно, мой любезнейший друг становится идиотом. Я скоро куплю ему прялку взамен его знаменитого ножа».
Глава XX
Как Фоконьяк перетолковал манию Наполеона
С судебным следствием случилось то, что должно было случиться. Оно сбилось со следа. Император ничего не мог узнать, кроме того, что Кроты грабили окрестности Фонтенбло. Он разбранил Савари, Фуше и всю полицию, а потом приказал устроить охоту на другой день после преступления. Он хотел осмотреть хижину, где было совершено убийство, не подавая вида, поэтому охота должна была направиться в ту сторону. Фоконьяк и Жорж также были приглашены. Они находились в большой милости после свидания с Фуше.
Наполеон был неважным охотником. Тогдашние мемуары наполнены рассказами о его неловкости, однако он все же охотился. Наполеон, имевший свои слабые стороны, в качестве выскочки хотел отличиться на охоте, но ничего в ней не понимал. Поэты писали когда-то, что охота есть изображение войны; это было справедливо во времена Гомера, справедливо и в наше время в Африке, но вообще сравнивать охоту с настоящей войной – нелепость. Охота есть искусство и наука особого рода. До революции охота входила в часть воспитания знатных вельмож. Французские короли все были искусными охотниками. Но Наполеон ничего не понимал в этой науке и не имел инстинкта этого искусства; он втайне служил предметом насмешек для дворян своей свиты. Он это знал, и ему хотелось бы, как Генриху IV, рогатиной убивать вепря; ему хотелось бы нанести последний удар оленю, загоняемому собаками; но у него недоставало меткости взгляда и физической смелости. И все-таки он охотился с неистовством.
Когда император удовлетворил свое любопытство в хижине, охота началась. Несколько часов все шло хорошо. Позавтракали. Но потом, когда опять начали охотиться, разразилась сильная гроза. Император успел укрыться в какой-то хижине. Человек десять приютились вместе с ним под этой кровлей, и между прочими обер-егермейстер, шталмейстер и Савари. Наполеон – надо отдать ему справедливость – губил на войне сотни тысяч, но побоялся бы подвергнуть своего камердинера опасности воспаления легких и велел обер-егермейстеру отпустить всех, кто не найдет себе убежища.
Человек сто придворных тотчас исчезли, чтобы отыскивать себе укрытие. Только Фоконьяк и Жорж остались. Гасконец, человек находчивый, нашел дуб с очень широкими ветвями, разложил на них свой плащ и, сделав палатку, встал под ней. Жорж последовал его примеру. Оба, верхом, выдерживали таким образом грозу. Маршал Бертье увидел их из хижины и улыбнулся.
– Государь, – сказал он, – вот два оригинала, которые просят у вас полк и доказывают вам теперь, что они умеют стоять на биваке.
Наполеон рассеянно взглянул на дуб, видневшийся в маленькое окно, и, приметив лицо Фоконьяка, начал смеяться.
– Этот похож на Дон Кихота, – сказал он. – А как зовут его товарища?
– Кавалер де Каза-Веккиа, государь, – ответил Савари.
– Старинная ломбардская фамилия?
– Да, государь.
– И вы говорите, что он хочет полк?
– Он упорно утверждает, что Каза-Веккиа, хоть бы и незаконнорожденный, может принять только полковничий чин. У этого молодчика невероятные притязания!
– У него умный и храбрый вид, – заметил император.
Он понюхал табак. Савари наблюдал за ним. Император сделал легкий знак, и все стали поодаль. Наполеон сказал генералу:
– В первый раз, как у вас будет какое-нибудь трудное поручение, требующее мужества, отдайте его этому дворянину. Он хочет чин полковника, пусть его заслужит.
Очевидно император хотел привязать к себе во что бы то ни стало человека с таким знатным именем. Савари лукаво улыбнулся.
– Хорошо, государь, – сказал он.
«Экое счастье этим дворянам! – думал он. – Знатное имя, герб, даже незаконнорожденного, обеспечивают карьеру при дворе Наполеона Первого, коронованного солдата, который хочет разыгрывать роль дворянина и корчит Людовика Четырнадцатого!»
Савари, не любивший дворян, задумал дать Жоржу опасное, невозможное поручение, в котором тот потерпел бы неудачу. Этот добрый Савари всегда поступал так. Таким образом обесславил он Гюлена, этого храброго генерала, скомпрометировав его в деле герцога Энгиенского, потому что Гюлен не захотел участвовать в каком-то полицейском плутовстве. Того, кто не хотел грязнить себя так, как он, Савари забрасывал грязью.
Император, походив по хижине – придворные сторонились, чтобы дать ему дорогу, – наконец остановился у окна. Там, по своему обыкновению, он стал стучать пальцами по стеклу, смотря как льет дождь.
– Жорж, – сказал гасконец, – мы мокнем, как лягушки, но если ты хочешь, мы войдем в хижину.
– Ты сошел с ума. Император велит нас прогнать.
– Ты ошибаешься. Он улыбается нам и стучит в стекло, приглашая нас войти.
Не дожидаясь возражений своего друга, он сошел с лошади, привязал ее за узду, а потом сказал:
– Ты пойдешь?
– Но что ты ему скажешь? – заметил Жорж.
– Навру чего-нибудь.
Жорж имел слишком много смелости в характере и слишком много доверия к своему другу, чтобы отступить; он пошел за гасконцем.
Фоконьяк смело вошел и прямо подошел к императору с бесстыдством, заставившим придворных побледнеть. Наполеон нахмурил брови. Такая бесцеремонность крайне не понравилась ему. Гасконец поклонился раздраженному императору и сказал:
– Государь, мы с товарищем пришли спросить, которого из нас зовете вы или спрашиваете обоих нас?
В эту минуту Жорж поклонился в свою очередь, молча и с тем величественным видом, который поражал императора несколько раз. У этого молодого человека было то изящное обращение, которого недоставало выскочкам нового двора. Пока Наполеон, пораженный изящной наружностью Жоржа, молчал, Фоконьяк, согнувшись вдвое, продолжал:
– Если мы вашему величеству нужны, то мы телом и душой к вашим услугам.
– Вы ошибаетесь, – строго сказал Наполеон, – я вас не ждал.
– Тысяча извинений! В другой раз не буду верить ни глазам, ни ушам.
– Это что значит?
– Мне показалось, будто августейшие пальцы вашего величества стучали в стекло. Я сказал себе, что император и король, царствующий над шестьюдесятью миллионами подданных, бросил благосклонный взгляд на нижайшего из своих слуг, и поспешил явиться. – Потом с глубоким вздохом он прибавил: – Кажется, я ошибся.
Император угадал смелую хитрость Фоконьяка и засмеялся.
– Господа, – сказал он, – вы мне не нужны. Вы, кажется, имеете обыкновение просить высокую цену за свои услуги, к которым мои средства не позволяют мне прибегать. Но идет дождь… Так как вы уже здесь, то останьтесь.
– Благодарю вас, государь, – сказал Жорж, оставив без внимание иронию, заключавшуюся во фразе императора.
– Вы не только отец, вы мать ваших подданных, государь! – сказал Фоконьяк.
Наполеон повернулся к ним спиной и опять начал стучать в стекло. Но дождь мало-помалу переставал. Сильные грозы непродолжительны. Небо прояснилось, когда Жорж, услышав лай собак, сказал обер-егермейстеру:
– Кажется, свора приближается сюда?
– Да, – сказал Бертье. – Государь, – прибавил он, – эта косуля знает ремесло придворных. Она хочет в конце грозы быть убитой вашим величеством. Невозможно быть вежливее!
– Извините, ваша светлость, – сказал Жорж, прислушавшись, – но это не косуля.
– А чего церемониться? – ответил Фоконьяк. – Отчего не поступить с нею, как с другими? Когда она тебе надоест, брось ее. Разница только та, что у этой девочки, говорят, миллионов тридцать. Взять такое приданое что-нибудь да значит. Притом чтобы промотать подобное состояние, нужно много времени, так что ты долго будешь составлять счастье твоей инфанты…
– Никогда! – перебил его Жорж. – Никогда не сделаю я подобной гнусности… Я даже запрещаю тебе говорить мне о Жанне.
Тон, которым были произнесены эти последние слова, заставил Фоконьяка замолчать. Он только подумал: «Решительно, мой любезнейший друг становится идиотом. Я скоро куплю ему прялку взамен его знаменитого ножа».
Глава XX
Как Фоконьяк перетолковал манию Наполеона
С судебным следствием случилось то, что должно было случиться. Оно сбилось со следа. Император ничего не мог узнать, кроме того, что Кроты грабили окрестности Фонтенбло. Он разбранил Савари, Фуше и всю полицию, а потом приказал устроить охоту на другой день после преступления. Он хотел осмотреть хижину, где было совершено убийство, не подавая вида, поэтому охота должна была направиться в ту сторону. Фоконьяк и Жорж также были приглашены. Они находились в большой милости после свидания с Фуше.
Наполеон был неважным охотником. Тогдашние мемуары наполнены рассказами о его неловкости, однако он все же охотился. Наполеон, имевший свои слабые стороны, в качестве выскочки хотел отличиться на охоте, но ничего в ней не понимал. Поэты писали когда-то, что охота есть изображение войны; это было справедливо во времена Гомера, справедливо и в наше время в Африке, но вообще сравнивать охоту с настоящей войной – нелепость. Охота есть искусство и наука особого рода. До революции охота входила в часть воспитания знатных вельмож. Французские короли все были искусными охотниками. Но Наполеон ничего не понимал в этой науке и не имел инстинкта этого искусства; он втайне служил предметом насмешек для дворян своей свиты. Он это знал, и ему хотелось бы, как Генриху IV, рогатиной убивать вепря; ему хотелось бы нанести последний удар оленю, загоняемому собаками; но у него недоставало меткости взгляда и физической смелости. И все-таки он охотился с неистовством.
Когда император удовлетворил свое любопытство в хижине, охота началась. Несколько часов все шло хорошо. Позавтракали. Но потом, когда опять начали охотиться, разразилась сильная гроза. Император успел укрыться в какой-то хижине. Человек десять приютились вместе с ним под этой кровлей, и между прочими обер-егермейстер, шталмейстер и Савари. Наполеон – надо отдать ему справедливость – губил на войне сотни тысяч, но побоялся бы подвергнуть своего камердинера опасности воспаления легких и велел обер-егермейстеру отпустить всех, кто не найдет себе убежища.
Человек сто придворных тотчас исчезли, чтобы отыскивать себе укрытие. Только Фоконьяк и Жорж остались. Гасконец, человек находчивый, нашел дуб с очень широкими ветвями, разложил на них свой плащ и, сделав палатку, встал под ней. Жорж последовал его примеру. Оба, верхом, выдерживали таким образом грозу. Маршал Бертье увидел их из хижины и улыбнулся.
– Государь, – сказал он, – вот два оригинала, которые просят у вас полк и доказывают вам теперь, что они умеют стоять на биваке.
Наполеон рассеянно взглянул на дуб, видневшийся в маленькое окно, и, приметив лицо Фоконьяка, начал смеяться.
– Этот похож на Дон Кихота, – сказал он. – А как зовут его товарища?
– Кавалер де Каза-Веккиа, государь, – ответил Савари.
– Старинная ломбардская фамилия?
– Да, государь.
– И вы говорите, что он хочет полк?
– Он упорно утверждает, что Каза-Веккиа, хоть бы и незаконнорожденный, может принять только полковничий чин. У этого молодчика невероятные притязания!
– У него умный и храбрый вид, – заметил император.
Он понюхал табак. Савари наблюдал за ним. Император сделал легкий знак, и все стали поодаль. Наполеон сказал генералу:
– В первый раз, как у вас будет какое-нибудь трудное поручение, требующее мужества, отдайте его этому дворянину. Он хочет чин полковника, пусть его заслужит.
Очевидно император хотел привязать к себе во что бы то ни стало человека с таким знатным именем. Савари лукаво улыбнулся.
– Хорошо, государь, – сказал он.
«Экое счастье этим дворянам! – думал он. – Знатное имя, герб, даже незаконнорожденного, обеспечивают карьеру при дворе Наполеона Первого, коронованного солдата, который хочет разыгрывать роль дворянина и корчит Людовика Четырнадцатого!»
Савари, не любивший дворян, задумал дать Жоржу опасное, невозможное поручение, в котором тот потерпел бы неудачу. Этот добрый Савари всегда поступал так. Таким образом обесславил он Гюлена, этого храброго генерала, скомпрометировав его в деле герцога Энгиенского, потому что Гюлен не захотел участвовать в каком-то полицейском плутовстве. Того, кто не хотел грязнить себя так, как он, Савари забрасывал грязью.
Император, походив по хижине – придворные сторонились, чтобы дать ему дорогу, – наконец остановился у окна. Там, по своему обыкновению, он стал стучать пальцами по стеклу, смотря как льет дождь.
– Жорж, – сказал гасконец, – мы мокнем, как лягушки, но если ты хочешь, мы войдем в хижину.
– Ты сошел с ума. Император велит нас прогнать.
– Ты ошибаешься. Он улыбается нам и стучит в стекло, приглашая нас войти.
Не дожидаясь возражений своего друга, он сошел с лошади, привязал ее за узду, а потом сказал:
– Ты пойдешь?
– Но что ты ему скажешь? – заметил Жорж.
– Навру чего-нибудь.
Жорж имел слишком много смелости в характере и слишком много доверия к своему другу, чтобы отступить; он пошел за гасконцем.
Фоконьяк смело вошел и прямо подошел к императору с бесстыдством, заставившим придворных побледнеть. Наполеон нахмурил брови. Такая бесцеремонность крайне не понравилась ему. Гасконец поклонился раздраженному императору и сказал:
– Государь, мы с товарищем пришли спросить, которого из нас зовете вы или спрашиваете обоих нас?
В эту минуту Жорж поклонился в свою очередь, молча и с тем величественным видом, который поражал императора несколько раз. У этого молодого человека было то изящное обращение, которого недоставало выскочкам нового двора. Пока Наполеон, пораженный изящной наружностью Жоржа, молчал, Фоконьяк, согнувшись вдвое, продолжал:
– Если мы вашему величеству нужны, то мы телом и душой к вашим услугам.
– Вы ошибаетесь, – строго сказал Наполеон, – я вас не ждал.
– Тысяча извинений! В другой раз не буду верить ни глазам, ни ушам.
– Это что значит?
– Мне показалось, будто августейшие пальцы вашего величества стучали в стекло. Я сказал себе, что император и король, царствующий над шестьюдесятью миллионами подданных, бросил благосклонный взгляд на нижайшего из своих слуг, и поспешил явиться. – Потом с глубоким вздохом он прибавил: – Кажется, я ошибся.
Император угадал смелую хитрость Фоконьяка и засмеялся.
– Господа, – сказал он, – вы мне не нужны. Вы, кажется, имеете обыкновение просить высокую цену за свои услуги, к которым мои средства не позволяют мне прибегать. Но идет дождь… Так как вы уже здесь, то останьтесь.
– Благодарю вас, государь, – сказал Жорж, оставив без внимание иронию, заключавшуюся во фразе императора.
– Вы не только отец, вы мать ваших подданных, государь! – сказал Фоконьяк.
Наполеон повернулся к ним спиной и опять начал стучать в стекло. Но дождь мало-помалу переставал. Сильные грозы непродолжительны. Небо прояснилось, когда Жорж, услышав лай собак, сказал обер-егермейстеру:
– Кажется, свора приближается сюда?
– Да, – сказал Бертье. – Государь, – прибавил он, – эта косуля знает ремесло придворных. Она хочет в конце грозы быть убитой вашим величеством. Невозможно быть вежливее!
– Извините, ваша светлость, – сказал Жорж, прислушавшись, – но это не косуля.