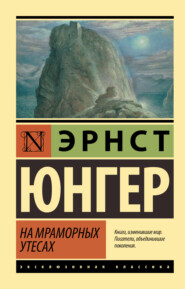По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эвмесвиль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Боль потери сравнима с тяжелой болезнью; если мы одолеваем болезнь, она более нас не тревожит. Мы получаем прививку от укуса этой змеи. Рубцы не чувствуют ее жало. Остается бесчувственность. Одновременно уходит и страх. Я стал настолько же острее воспринимать окружающий мир, насколько уменьшилось мое в нем участие. Мог оценить его опасности и преимущества. Позднее это пошло на пользу историку. Тогда, в детстве, когда я сидел впотьмах, не видя выхода, в душе моей сформировалось убеждение в несовершенстве и суетности мира, и с тех пор оно не покидает меня. Я остался чужаком в отчем доме.
Боль не отпускала меня целый год, а может, и дольше. Потом она начала остывать, как остывает вулканическая лава, образуя прочную корку, по которой можно ходить без опаски. Так происходило рубцевание, я понял правила игры общества, окружавшего меня. Стал лучше учиться, учителя обратили на меня внимание. Потом были уроки фортепьяно.
Родитель смотрел на меня с растущей благосклонностью. Я мог бы вступить с ним в более доверительные отношения, но мне было неприятно, когда он клал руку мне на плечо или в своей фамильярности переступал границы необходимого.
Что ни говори, я был плодом любви, в отличие от брата, духовно более близкого отцу и считавшего себя законным сыном, а меня вроде как бастардом. Я признаю`, что его суждение покоилось не только на ревности, но родители так ускорили развод, что я родился законным сыном. К тому же в Эвмесвиле не принято тщательно подсчитывать сроки.
* * *
Мать была для меня целым миром; личностью она становилась постепенно. Позднее, уже в зрелые годы, когда родитель был на каком-то конгрессе, я воспользовался возможностью ближе познакомиться со своей предысторией. Историк немыслим без склонности рыться в архивах, и он сохраняет то, что иные люди по окончании событий обычно уничтожают. За смертью хозяина огненной жертве предают его архивы; так происходит почти всегда.
И моему родителю, наверное, стоило бы сжечь письма, которыми он обменивался с матерью в самые напряженные три месяца. Видимо, он не мог с ними расстаться и сохранил на чердаке. Там я извлек их из необозримого моря бумаг и в сумерках углубился в изучение первых месяцев моего земного бытия.
Так, я узнал момент, когда оно началось, и место – картографический зал исторического института. Этот зал мне знаком: посетители заходят туда редко; и карты – прекрасное укрытие для мимолетных любовных приключений. Тем не менее такой прыткой горячности я в своем родителе никак не предполагал.
Должно быть, есть женщины, которые мгновенно видят и чувствуют, что вспыхнула искра. Вряд ли это объяснимо физиологически, но моя мать принадлежала именно к такому сорту женщин. Намеками, но очень недвусмысленно, она писала, что я появился, или, по меньшей мере, стал заметен. Родитель, вроде как не понимая, пытался отговорить ее, твердил, что она ошибается, – чисто теоретически, еще на третьей неделе, когда я уже принял форму тутовой ягоды и начал понемногу дифференцироваться. Я был покуда не больше рисового зернышка, но уже различал право и лево, и сердце двигалось у меня внутри, как скачущий кончик иглы.
Когда не думать обо мне было уже нельзя, он взялся за меня практически. Не стану вдаваться в подробности. Но так или иначе, плавая в околоплодных водах, я, точно Синдбад-мореход, подвергался множеству опасностей. Родитель искал способ избавиться от меня с помощью ядов и колющего оружия, даже нашел пособника на медицинском факультете. Однако мать твердо держала мою сторону; она хотела моего рождения, к счастью для меня.
По версии моего брата я был для нее средством заполучить старика – что ж, вполне возможно, но это лишь практичная сторона ее стихийного чувства. Как мать, она хотела сохранить меня как личность, она имела право на благополучие.
* * *
Вообще судить о таких их взаимоотношениях следует комплексно, неоднозначно. Что я и делаю, благодаря не только Виго, но еще и Бруно, моему наставнику в философии.
Я помню его лекцию, когда он в мифологическом аспекте излагал концепцию времени и пространства. По его мысли, отец выступает в роли времени, а мать – в роли пространства; в космологическом смысле он – небо, а она – звезды; в теллурическом – он вода, а она – земля; он творит и уничтожает, она принимает и сохраняет. Времени присуще неутолимое беспокойство, каждый следующий миг упраздняет предыдущий. Древние представляли время в образе Кроноса, пожирающего своих детей.
Как титан – отец пожирает свое порождение, как бог – приносит его в жертву. Как царь – растрачивает его в войнах, которые сам же и затевает. Биос и миф, история и теология дают тому множество примеров. Мертвые возвращаются не к отцу, а к матери.
* * *
Кроме того, Бруно останавливался на различиях между трупосожжением и погребением. Не знаю, верно ли я его цитировал. Мне все же кажется, что вода скорее присуща матери; христиане отождествляют воду с духом. Именно вопросы соподчинения становились поводом к длительным войнам. Кирилл[16 - Кирилл Александрийский (444 г.) – патриарх Александрии с 419 г., один из Отцов Церкви.] считает воду важнейшим из четырех элементов и самым изменчивым веществом. Результаты космических полетов как будто подтверждают это ex negativo[17 - От противного (лат.).].
Знакомым с мифом известно, что огромность моря есть лишь его обманчивая поверхность. В Эвмесвиле, где уже много поколений мыслят сугубо количественно, это едва ли поймут. В записках одного русского странника я читал, что глоток воды, поднесенный жаждущему в горсти, больше семи морей. То же можно сказать и об околоплодных водах. Во многих языках слова «мать» и «море» созвучны.
9
Так или иначе должен признать, что, преследуя меня, мой родитель вел себя совершенно естественно. Как анарх я не могу не признать, что он отстаивал свои права. Ведь все отношения основаны на взаимности.
Здесь полным-полно сыновей, которые точно так же спаслись от отцов. По большей части это остается неведомым. Эдиповы отношения редуцированы до недовольства индивидов друг другом. Утрата уважения неизбежна, но люди как-то уживаются.
Меня меньше коробит собственная предыстория, то, что по причине своего отцовства старик требует уважения. Требует чести, которой ему не полагается, упирает на тот факт, что некогда жили отцы, государи, профессора, заслужившие так называться. Ныне все это не более чем пустая молва.
Когда он начинает чваниться, меня порой так и подмывает напомнить ему о картографическом зале и о хитростях, с какими он подступал к матери. Она прятала меня от него в своем чреве, как Рея прятала Зевса от пожирающего детей Сатурна.
Разумеется, я не делаю такого хода; я и здесь осознаю свой недуг – несовершенство. Некоторые истины надо умалчивать, если мы хотим и дальше сосуществовать; мы кое-как продолжаем игру, но доску не переворачиваем.
Сдержанностью я опять-таки обязан Бруно, который распространяет свой курс на магическое и даже на практическое поведение. Он говорил: «Если с ваших уст готово слететь слово, поднесите руку к левой стороне груди, словно хватаетесь за бумажник. Тогда вы сбережете колкую остроту; она добавится к вашему капиталу. Вы ощутите свое сердце».
Вот так и я веду себя с моим дражайшим папашкой. Иной раз я даже испытываю благодушие. И советую Виго поступать так же, когда ему хочется отплатить на злобную критику той же монетой.
* * *
Мне не хватает отца именно потому, что я не признаю оного в моем родителе, но это отдельная тема. Я ищу отца, к которому могу испытывать уважение. Такое возможно и в Эвмесвиле, хотя и в порядке исключения. Мы ищем духовных отцов. С ними нас связывают узы более прочные, нежели кровные.
Подобные высказывания следует, конечно, воспринимать с осторожностью, ибо в них всегда присутствует и нечто материальное. Ведь благодаря отцу мы вплетены в бесконечную вязь. Актом зачатия он совершает неведомую ему самому мистерию, в которой может погибнуть его самость. Так что возможно, мы больше сродни дяде или отдаленному предку, чем отцу. Специалистам по генеалогии да и биологам хорошо знакомы такие сюрпризы, часто взрывающие их системы. Объем наследственности необозрим; ее царство простирается до неживого мира. Из нее могут вынырнуть давно вымершие существа.
* * *
Думаю, этот экскурс показывает, почему я предпочитаю усыновление естественному родству. Отцовство становится духовным; мы – родственники не по крови, но по выбору. Стало быть, Эрос должен властвовать и в духовном родстве, наставник есть крестный отец на более высоком уровне. Мы выбираем крестного отца, pater spiritualis[18 - Духовного отца (лат.).]; он заново познает себя в нас – принимает нас. Вот этому соприкосновению мы обязаны жизнью, жизнью, дерзну сказать, вечной. Не стану пускаться в душевные откровения, здесь им не место.
Думаю, рождение и окружение, в котором я оказался, проясняют, почему я испытываю чувство такого родства к трем моим академическим учителям, трем профессорам. Будь я призван к ремеслу, искусству, религии, военному делу, у меня были бы другие образцы, и опять же совсем другие, если б я выбрал путь преступлений.
Я вижу, как тяжко трудится на ловле тунца раис[19 - Раис – в арабских странах: начальник.] со своими рыбаками; их подчинение ему – как бы панцирь доверия, связывающего их с ним; он – глава, они выбрали его. Здесь чувствуется больше отцовства, даже когда он с ними суров, он больше отец, чем мой старик, плавающий в застойных водах, когда мы сидим за одним столом.
* * *
От философа ждут системы; у Бруно искать ее бесполезно, хотя он свободно ориентируется в истории философской мысли. Его курс о развитии скепсиса со времен Гераклита занимает целый год; он скрупулезен, на чем и зиждется его мастерство. Этот курс охватывает практическую часть его учения, в известной мере ремесленную. Прослушавший его, не зря потратил деньги на обучение; он будет доволен. Одаренные ученики, уже ставшие учителями, прекрасно пользуются результатом. Тот, кто учит нас думать, делает нас повелителями людей и фактов.
Им не стоит беспокоиться, что здесь скрывается нечто большее; это лишь собьет их с толку. Кстати, все, о чем он умалчивает, оказывает воздействие и на них, пронизывая рационализм его лекций. Молчание укрепляет авторитет сильнее, чем слова; это касается как монарха, который может быть и неграмотным, так и учителя высокого духовного ранга.
Хотя мне посчастливилось близко узнать Бруно, в наших разговорах оставалось много невысказанного, даже в те вечера, когда успевали осушить не один бокал. Он любит вино, которое не покоряет его, но делает ярче горящий в его душе огонь.
Бруно коренаст, широкоплеч; лицо полное, чуть красноватое. Глаза у него слегка навыкате, что придает им необычный блеск. Когда он говорит, лицо становится смелым, дерзковатым и краснеет еще больше. Улыбка сопровождает иронические замечания почти незаметно, но при этом дружелюбна, словно комплимент. Сама же сентенция – как дегустация изысканного вина – предназначена только для знатоков. Часто, когда я сидел напротив, он делал рукой легкий свободный жест, словно приподнимал завесу перед тихим ангелом, открывая путь в царство бессловесного. Согласие приходило на смену пониманию.
* * *
Бруно тоже считает положение в Эвмесвиле благоприятным – исторический материал исчерпан. Никто уже не воспринимает всерьез ничего, кроме грубых удовольствий и требований повседневной жизни. Тело общества напоминает путника, который, устав от скитаний, просто предается покою. Теперь главное – образы.
Эти мысли имели практическое значение для моей службы. Виго посоветовал мне как историку: я должен вникнуть в исторические модели, которые, не задевая и тем паче не воодушевляя меня, регулярно повторяются. Так изучают чеканку монет, давно вышедших из употребления. На рынке они уже ничего не стоят, но по-прежнему завораживают любителя.
Бруно добавлял сюда следующее: предчувствие, что на стене, с которой уже сыплется штукатурка, проступят давно забытые, но дремлющие в тебе идолы, – сграффито мощи пред- и праистории. Тогда науке придет конец.
* * *
Внимание, с каким я стою за стойкой, нацелено в трех временных направлениях. Во-первых, на удовлетворение желаний Кондора и его гостей – это настоящее время, сейчас. Далее, я внимательно слежу за их разговорами, за возникновением их желаний, за переплетениями их политических оценок. Для них все это, пожалуй, актуально; для меня, в духе Виго, – модель, которую именно малые государства демонстрируют яснее, чем великие империи. Макиавелли было достаточно одной Флоренции. Я убежден, что Домо очень внимательно штудировал флорентийца; иные его фразы будто взяты из «Государя».
После полуночи, когда они уже в подпитии, я удваиваю бдительность. Сыплются слова, фразы, явно о лесе; я складываю осколки в мозаику. Воспоминания Аттилы образуют крупные куски и фрагменты; он долго жил в лесу и не скупится на рассказы из той своей жизни. Правда, их трудно согласовать с временем и с реальностью; они требуют скорее чутья мифолога, нежели знаний историка. Лесной отшельник живет словно в горячечном бреду.
Я слежу за разговорами, как охотничий пес за дичью, вникая не только в слова, но и в мимику, в жесты и даже в молчание. Что там зашевелилось в чаще – это ветер или на поляну выскочит неведомый зверь? Желание запечатлеть миг на письме набирает силу; таков инстинкт, живущий в каждом историке, и я знаю, как быть.
В мои служебные обязанности входит ведение регистрационного журнала; надо непременно записывать, какие напитки и продукты с камбуза проходят через бар. И речь здесь не столько о счетах, сколько о безопасности.
Значит, никто не обратит внимания, если я возьму в руки карандаш и произведу подсчет. Правда, журнал надо показывать Домо. Его интересуют, в частности, вкусы и привычки каждого гостя. Однако практически невозможно, чтобы он заметил спрятанную в тексте тайнопись. Я придумал систему точек и незаметно выделяю нажимом определенные буквы. Для меня речь идет не столько о том, чтобы зафиксировать внешние впечатления, сколько о том, чтобы выделить главное. И тут я опять возвращаюсь к важности молчания. Мне необходимо контролировать и обстановку, и в те минуты, когда чувствую, что в воздухе повисает нечто неприятное, я позволяю себе известные вольности, еще больше усиливая напряжение.
В конечном счете я так наметал глаз, что мне теперь достаточно только почерка; я смотрю на почерк как в зеркало времени. Одну деталь в этой связи я бы опустил, если бы она не объясняла методику Бруно.
Что почерк может поведать обо всем, от домашнего хозяйства до высочайших подвигов духа, известно каждому, но графолог знает, что сведущему человеку почерк открывает и характер пишущего. Бруно пошел еще дальше: для него почерк – зеркало, которое ловит миг и вновь высвобождает, если внимательно в него всмотреться. Почему люди в странствиях несли с собой синайские скрижали? Ведь все и так знали текст наизусть. И все же скрижали сообщали нечто большее, чем просто заповеди: они символизировали власть. Поэтому первосвященник втайне рассматривал их перед жертвоприношением – а может, и прикасался к ним.