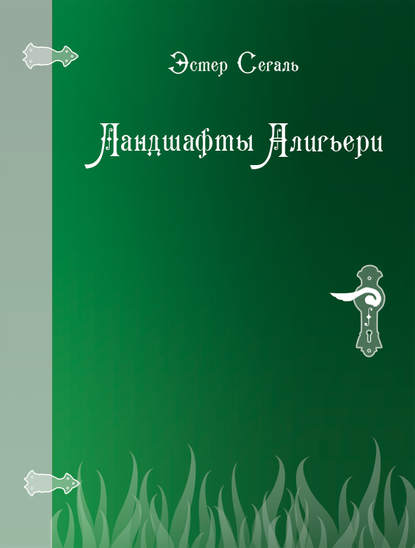По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ландшафты Алигьери
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Душу облегчить.
С учетом того, что у обитателей ада, по всей видимости, ничего кроме души и не оставалось, это было весьма весомое предложение. Но, видимо, смятенная душа в свое облегчение не очень верила, ибо не поторопилась открыться нараспашку (в соответствии с известным выражением), а наоборот, еще больше замкнулась в себе и некоторое время молча заламывала руки.
– Мне стыдно! – наконец, произнесла она. Или все-таки он (глядя на этого мужчину, я решил называть его соответственно видимым телесным признакам).
– Стандартная реакция! – прокомментировал Сартр, очевидно, для меня.
– И что с ним теперь будет? – посочувствовал я бедолаге.
– Обычно после этого они бредут куда глаза глядят.
– И куда приходят?
– К следующей станции.
– К одной и той же?
– Как правило.
– Даже если их глаза глядят в разные стороны?
– Куда бы ни глядели.
– Так получается, что у вас тут с пространством то же самое, что и со временем: у каждого свое, но у всех в результате совпадает?
– Такое уж это место! – согласился проводник.
– А давайте, пока он не побрел куда глаза глядят, расспросим его, что именно ему там привиделось, – с определенной долей наглости предложил я.
– Пожалуйста. Кто же Вам мешает?
– Может, для этого удобнее внутрь войти? А то здесь как-то… сыро.
– Никак нельзя. Туда вход разрешен только по одному. А то видения наложатся, и такое начнется!
– А мне дадите попробовать?
– А Вы вот сначала с коллегой пообщайтесь, а потом будете решать, стоит ли проситься.
Я перевел глаза на коллегу. Он был мрачен, но пока еще не порывался брести куда глаза глядят.
– Расскажите, пожалуйста, что Вас так расстроило, – обратился я к нему как можно вежливее.
– То, что исправить ничего нельзя! – с надрывом в голосе отозвался он.
– Стандартная реакция! – повторился Сартр.
А бывший обитатель будки уселся прямо в траву, прислонившись к своему недавнему убежищу спиной, и начал первый свой рассказ.
Первая история из зеркальной комнаты
Я был самым стандартным ребенком, и в школе учился через пень-колоду. Пока однажды на уроке природоведения не случилось удивительное: я заинтересовался пленочкой от репчатого лука.
Мы тогда всем классом проводили эксперимент. На каждой парте стоял маленький микроскоп, а в руках у нас кипела работа. Надо было очистить луковицу от шелухи, затем разделить целую головку на отдельные пластинки и оторвать от каждой тончайшую кожицу. А потом эта прозрачная нежная материя погружалась в йодовый раствор и становилась фиолетовой, чтобы в микроскоп можно было разглядеть отдельные ее клеточки.
Я как сейчас помню свой восторг от той картины, которая открылась моему глазу, прилипшему к окуляру: это был целый городок из маленьких продолговатых вакуолей, разделенных мембранами. И слова эти, только что изученные на уроке: «вакуоль», «мембрана» – я еще долго перекатывал во рту.
И вечером, улегшись в кровать, в полной темноте и с закрытыми глазами я все повторял: «вакуоль, вакуоль». И мне казалось, что слюна у меня становится сладкой, словно от леденца.
С того дня я задумал посвятить себя естествознанию. Проникнуть в микромиры, скрывающиеся от невооруженного людского глаза.
И каждый предмет отныне выглядел для меня по-другому. Я смотрел на самые примитивные из них и думал: «Вот ужо я тебя познаю. Ведь и ты состоишь из мельчайших элементов. И твои живые клетки однажды предстанут передо мной всем своим скопом и обнажат твою истинную суть».
А когда в 7 классе у нас появилась химия, моему восторгу не было предела…
Предел наступил позднее, когда после моего 14-летия отец поинтересовался, чем бы именно мне хотелось заняться в жизни.
Я ответил, не колеблясь, что фармацевтикой, ибо к тому времени мое увлечение химией как таковой стало приобретать более узкий и гуманистический характер. Я мечтал изобретать уникальные лекарства – панацею от самых страшных болезней со смертельным привкусом: от хронического бесплодия до рака и СПИДа. Но мой отец лишь неодобрительно покачал головой.
– Фантазировать ты горазд, – сказал он. – Но кто же вместо тебя принесет в дом свою трудовую копейку? Достаточно уже мы с матерью тебя кормили. Пора и тебе задуматься о том, как обеспечить нам достойную старость.
Я мысленно содрогнулся от лавины ответственности, которая с грохочущим эффектом покатила на меня откуда-то с потолка в районе горделиво распяленной люстры с подвесками, незадолго до этого памятного разговора приобретенной моими родителями очень выгодно в комиссионке, очень выгодно.
Я в очередной раз поизучал с минуту подвески и робко спросил:
– Так кем же ты мне предлагаешь стать?
Отец поощрительно хлопнул меня ладонью по плечу и снял с полки один из томов полного собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя.
– Вот, почитай, – сказал он. – Тем более, что это у вас в нынешнем году в программе. И особо обрати внимание на страницу, отмеченную закладочкой.
Я взял книжку и отправился за шкаф, служивший мне перегородкой, отделяющей мой личный мир от родительского ложа.
Книжка оказалась «Мертвыми душами», и начал я прямо с заложенного места (аж с 11-й главы), где отец Павлуши Чичикова поучает его перед отправлением в городскую школу:
«При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Б-г не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.
Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив – в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, – признак подступающего голода, – он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаяся с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно».
Прочитанное меня потрясло.
– Да ведь этот автор издевается над своими героями! – подумал я.
Но, как ни странно, отца этот мой довод никак не заинтересовал. В ответ на мое предложение рассмотреть ситуацию с позиции самого Гоголя он сказал следующее:
– Интересно, сколько твой Гоголь в месяц получал? И это при страшенном-то таланте: этак правду жизни схватить и описать! И правда эта вот какая, одна-единственная: береги копейку, она не предаст.
Я сильно втянул воздух носом, чтоб не расплакаться. Отец же продолжал:
С учетом того, что у обитателей ада, по всей видимости, ничего кроме души и не оставалось, это было весьма весомое предложение. Но, видимо, смятенная душа в свое облегчение не очень верила, ибо не поторопилась открыться нараспашку (в соответствии с известным выражением), а наоборот, еще больше замкнулась в себе и некоторое время молча заламывала руки.
– Мне стыдно! – наконец, произнесла она. Или все-таки он (глядя на этого мужчину, я решил называть его соответственно видимым телесным признакам).
– Стандартная реакция! – прокомментировал Сартр, очевидно, для меня.
– И что с ним теперь будет? – посочувствовал я бедолаге.
– Обычно после этого они бредут куда глаза глядят.
– И куда приходят?
– К следующей станции.
– К одной и той же?
– Как правило.
– Даже если их глаза глядят в разные стороны?
– Куда бы ни глядели.
– Так получается, что у вас тут с пространством то же самое, что и со временем: у каждого свое, но у всех в результате совпадает?
– Такое уж это место! – согласился проводник.
– А давайте, пока он не побрел куда глаза глядят, расспросим его, что именно ему там привиделось, – с определенной долей наглости предложил я.
– Пожалуйста. Кто же Вам мешает?
– Может, для этого удобнее внутрь войти? А то здесь как-то… сыро.
– Никак нельзя. Туда вход разрешен только по одному. А то видения наложатся, и такое начнется!
– А мне дадите попробовать?
– А Вы вот сначала с коллегой пообщайтесь, а потом будете решать, стоит ли проситься.
Я перевел глаза на коллегу. Он был мрачен, но пока еще не порывался брести куда глаза глядят.
– Расскажите, пожалуйста, что Вас так расстроило, – обратился я к нему как можно вежливее.
– То, что исправить ничего нельзя! – с надрывом в голосе отозвался он.
– Стандартная реакция! – повторился Сартр.
А бывший обитатель будки уселся прямо в траву, прислонившись к своему недавнему убежищу спиной, и начал первый свой рассказ.
Первая история из зеркальной комнаты
Я был самым стандартным ребенком, и в школе учился через пень-колоду. Пока однажды на уроке природоведения не случилось удивительное: я заинтересовался пленочкой от репчатого лука.
Мы тогда всем классом проводили эксперимент. На каждой парте стоял маленький микроскоп, а в руках у нас кипела работа. Надо было очистить луковицу от шелухи, затем разделить целую головку на отдельные пластинки и оторвать от каждой тончайшую кожицу. А потом эта прозрачная нежная материя погружалась в йодовый раствор и становилась фиолетовой, чтобы в микроскоп можно было разглядеть отдельные ее клеточки.
Я как сейчас помню свой восторг от той картины, которая открылась моему глазу, прилипшему к окуляру: это был целый городок из маленьких продолговатых вакуолей, разделенных мембранами. И слова эти, только что изученные на уроке: «вакуоль», «мембрана» – я еще долго перекатывал во рту.
И вечером, улегшись в кровать, в полной темноте и с закрытыми глазами я все повторял: «вакуоль, вакуоль». И мне казалось, что слюна у меня становится сладкой, словно от леденца.
С того дня я задумал посвятить себя естествознанию. Проникнуть в микромиры, скрывающиеся от невооруженного людского глаза.
И каждый предмет отныне выглядел для меня по-другому. Я смотрел на самые примитивные из них и думал: «Вот ужо я тебя познаю. Ведь и ты состоишь из мельчайших элементов. И твои живые клетки однажды предстанут передо мной всем своим скопом и обнажат твою истинную суть».
А когда в 7 классе у нас появилась химия, моему восторгу не было предела…
Предел наступил позднее, когда после моего 14-летия отец поинтересовался, чем бы именно мне хотелось заняться в жизни.
Я ответил, не колеблясь, что фармацевтикой, ибо к тому времени мое увлечение химией как таковой стало приобретать более узкий и гуманистический характер. Я мечтал изобретать уникальные лекарства – панацею от самых страшных болезней со смертельным привкусом: от хронического бесплодия до рака и СПИДа. Но мой отец лишь неодобрительно покачал головой.
– Фантазировать ты горазд, – сказал он. – Но кто же вместо тебя принесет в дом свою трудовую копейку? Достаточно уже мы с матерью тебя кормили. Пора и тебе задуматься о том, как обеспечить нам достойную старость.
Я мысленно содрогнулся от лавины ответственности, которая с грохочущим эффектом покатила на меня откуда-то с потолка в районе горделиво распяленной люстры с подвесками, незадолго до этого памятного разговора приобретенной моими родителями очень выгодно в комиссионке, очень выгодно.
Я в очередной раз поизучал с минуту подвески и робко спросил:
– Так кем же ты мне предлагаешь стать?
Отец поощрительно хлопнул меня ладонью по плечу и снял с полки один из томов полного собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя.
– Вот, почитай, – сказал он. – Тем более, что это у вас в нынешнем году в программе. И особо обрати внимание на страницу, отмеченную закладочкой.
Я взял книжку и отправился за шкаф, служивший мне перегородкой, отделяющей мой личный мир от родительского ложа.
Книжка оказалась «Мертвыми душами», и начал я прямо с заложенного места (аж с 11-й главы), где отец Павлуши Чичикова поучает его перед отправлением в городскую школу:
«При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Б-г не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.
Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив – в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, – признак подступающего голода, – он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаяся с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно».
Прочитанное меня потрясло.
– Да ведь этот автор издевается над своими героями! – подумал я.
Но, как ни странно, отца этот мой довод никак не заинтересовал. В ответ на мое предложение рассмотреть ситуацию с позиции самого Гоголя он сказал следующее:
– Интересно, сколько твой Гоголь в месяц получал? И это при страшенном-то таланте: этак правду жизни схватить и описать! И правда эта вот какая, одна-единственная: береги копейку, она не предаст.
Я сильно втянул воздух носом, чтоб не расплакаться. Отец же продолжал: