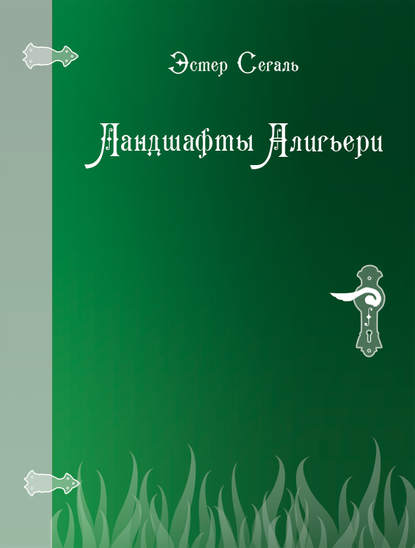По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ландшафты Алигьери
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мне тут замдиректора торгового училища кое-что должен, так что за поступлением, я думаю, дела не станет.
Так и решилась моя судьба.
Конец первой истории из зеркальной комнаты
Несостоявшийся фармацевт хлюпнул носом и посмотрел наверх, как будто устрашающая люстра его детства еще нависала над его головой. Но люстры не было, и ничего не было, кроме какого-то низкого и тяжкого серого неба.
Должно быть, этот факт вновь напомнил ему о неисправимости совершенного в прошлой жизни, потому что он тут же уронил лицо в ладони, и следующая его реплика буквально просочилась через пальцы:
– И все это я так ясно, так ярко увидел заново в зеркале! А потом там возникло и неожиданное продолжение.
Это была лаборатория.
Самая современная. С целой продуманной системой колб, весов, всяких агрегатов (увы, не став химиком, я так и не смогу обозначить все их названия) и компьютеров.
Там кипела какая-то микроскопическая и, очевидно, чрезвычайно весомая по значению жизнь. И меня страшно туда потянуло. Так захотелось погрузиться во все это, стать другом тем людям, которые, облаченные в спецодежду и маски, так что и лиц не различить, сосредоточенно творили какую-то лишь им доступную в осознании реальность.
А потом я присмотрелся к одному из них, и мне показалось, что именно этим человеком я как раз и мог бы быть, окажись я там, среди них. Лица его я тоже разобрать не мог, но вся его фигура, легкая сутулость, брови над маской цвета свежего салата, руки с характерными широкими костяшками пальцев – ну, буквально все могло быть моим.
И эти его руки, такие мне знакомые и почти родные, становились в зеркале все больше и больше. И я видел, как он своими неуклюжими, даже грубыми, на первый взгляд, пальцами, проделывает такую нежную и тонкую работу: отмеряет на весах какие-то вещества, берет пинцетом мельчайшие крупицы реактивов – бросает в емкости, наблюдает реакции и вводит данные наблюдений в компьютер. И на его экране возникают формулы.
Я вглядывался в них, и вдруг потихоньку меня пронзало понимание.
Вот удивительно, я ведь никогда ничего этого не учил, а тут оказалось, что все знаю. И гениальность рождающихся формул, пронзительное откровение их возникновения в той лаборатории потрясли меня до слез.
Да, это должно было быть моим. Но я прошел мимо. И уже ничего не изменить.
И тогда в зеркале возникла еще одна картина – больничная палата.
Там лежали люди, и из них торчали разные ужасные трубки. Через некоторые из них что-то подавалось в тела этих больных, а через, другие, наоборот, выкачивалось.
Я боялся заглянуть в их лица. Но зеркало, как нарочно, увеличило для меня каждое лицо: несколько пожилых и несколько совсем юных. И их закушенные губы. А потом их руки, судорожно и бесконтрольно комкающие одеяла…
Я видел все. Я сам содрогался от их мучений. А потом на приборах, подвешенных над одной из кроватей, что-то запищало и та линия, которая отражает ритм сердца и которую так любят показывать в сериалах, вдруг перестала извиваться и резко распрямилась.
И вбежала медсестра. И даже не стала ничего предпринимать: звать врачей с реанимационным набором или самостоятельно делать какие-нибудь усилия, вроде укола или искусственного дыхания.
Она просто стояла и молча констатировала смерть.
И тогда я понял, что все эти люди – смертники. И что их не спасти. А если бы и можно было спасти, то не стоило бы этого делать, чтобы насильственным образом не продлевать их невыносимые мучения.
И я понял, что те формулы, которые писал в лаборатории кто-то похожий на меня, были лекарством для этой палаты безнадежных. И они все умерли, один за другим. А помимо них, еще множество людей с тем же диагнозом.
Умерли. Что ж… все умирают.
Но эти конкретные просто из-за того, что я пошел в торговое училище.
И вот тут он прервался и заплакал.
6
Притча о человеке, который ничего не смел
Он боялся сказать то, что думал, в лицо.
И запачкать рубашку цветочной пыльцой.
И не в ногу шагнуть, если в общем строю.
И под письмами выставить подпись свою.
И без зонтика выйти в безоблачный день.
И прослыть несолидным у важных людей.
И сидеть в кинозале в последнем ряду.
И ходить, не сутулясь, у всех на виду.
Он боялся раздоров и в драку не лез.
Жил без крепких напитков и крепких словес.
Он немытые яблоки есть не привык.
И хранил от покупок и чек, и ярлык.
Он боялся контрастов и ярких цветов.
Никогда к переменам он не был готов.
Карту взять из колоды страшился не ту.
И, в очках не нуждаясь, играл в слепоту.
Он боялся товаров по льготной цене.
И система на нем отыгралась вполне:
После смерти его без излишней возни
В уцененном гробу на покой отвезли.
А над крышкой средь комьев земли улеглась
Взвесь несделанных дел и несказанных фраз.
И над ними для верности камень притих
С эпитафией жизни: от сих и до сих.
Как выяснилось, несостоявшийся фармацевт имел в запасе еще несколько печальных историй.
Вторая история из зеркальной комнаты
Сначала я выучился на продавца, а, успешно закончив практику, начал метить и в товароведы.
Распределили меня удачно: на кондитерскую фабрику, где, как каждому ясно, можно было неплохо поживиться. Шоколад и конфеты ведь все любят, и валюта эта в системе социальных отношений отдельно взятых индивидов никогда не обесценивается.
Выносить конфеты со склада я начал почти сразу. И ничуть не боялся, потому что все у нас это делали. Даже почти неприкрыто: когда проходили через проходную, не особо беспокоились, что карманы топорщатся, а из сумок и портфелей торчат коробки с ассорти.
Шоколадные кругляшки со сладкой помадкой внутри работницы фабрики брали прямо с конвейера и клали себе в рот. Потом ими же, уже завернутыми в яркие блестящие фантики и вновь освобожденными от оных, закусывали в перерыве: кто – чай, кто – водку.
И жили припеваючи. Все: от сторожа до замдиректора. А вот директор был странный: совсем иной породы.
Трудно поверить, но, похоже, что он совсем не воровал. То ли сладкого не любил, то ли честным был от природы. Но у него никогда ничего, ни конфет, ни шоколадок, – ниоткуда не торчало.
Некоторые из наших сотрудников поговаривали, правда, что в директорскую честность ни капельки не верят. Честных людей, мол, и вообще не бывает. А тем более не может быть честным человеком тот, кто дослужился до такого солидного поста. А стало быть, ворует он, но… по-крупному. Не так, как мы, простые смертные (тут рассказчик ненадолго прервался и призадумался, видимо только здесь и сейчас впервые осознав всю горечь употребленного им классического выражения). Не коробками, а тоннами: машинами, товарными вагонами. Потому-то карманы и не топорщатся.
Но я тогда думал, что, может, он и взаправду такой особенный. А сейчас-то я уже это точно знаю: в зеркале подглядел.
В общем, не нравился нашим работникам директор. Как-то при нем несподручно было. И за производством он как-никак, а присматривал. И заму своему особо разгуляться не давал.
Так и решилась моя судьба.
Конец первой истории из зеркальной комнаты
Несостоявшийся фармацевт хлюпнул носом и посмотрел наверх, как будто устрашающая люстра его детства еще нависала над его головой. Но люстры не было, и ничего не было, кроме какого-то низкого и тяжкого серого неба.
Должно быть, этот факт вновь напомнил ему о неисправимости совершенного в прошлой жизни, потому что он тут же уронил лицо в ладони, и следующая его реплика буквально просочилась через пальцы:
– И все это я так ясно, так ярко увидел заново в зеркале! А потом там возникло и неожиданное продолжение.
Это была лаборатория.
Самая современная. С целой продуманной системой колб, весов, всяких агрегатов (увы, не став химиком, я так и не смогу обозначить все их названия) и компьютеров.
Там кипела какая-то микроскопическая и, очевидно, чрезвычайно весомая по значению жизнь. И меня страшно туда потянуло. Так захотелось погрузиться во все это, стать другом тем людям, которые, облаченные в спецодежду и маски, так что и лиц не различить, сосредоточенно творили какую-то лишь им доступную в осознании реальность.
А потом я присмотрелся к одному из них, и мне показалось, что именно этим человеком я как раз и мог бы быть, окажись я там, среди них. Лица его я тоже разобрать не мог, но вся его фигура, легкая сутулость, брови над маской цвета свежего салата, руки с характерными широкими костяшками пальцев – ну, буквально все могло быть моим.
И эти его руки, такие мне знакомые и почти родные, становились в зеркале все больше и больше. И я видел, как он своими неуклюжими, даже грубыми, на первый взгляд, пальцами, проделывает такую нежную и тонкую работу: отмеряет на весах какие-то вещества, берет пинцетом мельчайшие крупицы реактивов – бросает в емкости, наблюдает реакции и вводит данные наблюдений в компьютер. И на его экране возникают формулы.
Я вглядывался в них, и вдруг потихоньку меня пронзало понимание.
Вот удивительно, я ведь никогда ничего этого не учил, а тут оказалось, что все знаю. И гениальность рождающихся формул, пронзительное откровение их возникновения в той лаборатории потрясли меня до слез.
Да, это должно было быть моим. Но я прошел мимо. И уже ничего не изменить.
И тогда в зеркале возникла еще одна картина – больничная палата.
Там лежали люди, и из них торчали разные ужасные трубки. Через некоторые из них что-то подавалось в тела этих больных, а через, другие, наоборот, выкачивалось.
Я боялся заглянуть в их лица. Но зеркало, как нарочно, увеличило для меня каждое лицо: несколько пожилых и несколько совсем юных. И их закушенные губы. А потом их руки, судорожно и бесконтрольно комкающие одеяла…
Я видел все. Я сам содрогался от их мучений. А потом на приборах, подвешенных над одной из кроватей, что-то запищало и та линия, которая отражает ритм сердца и которую так любят показывать в сериалах, вдруг перестала извиваться и резко распрямилась.
И вбежала медсестра. И даже не стала ничего предпринимать: звать врачей с реанимационным набором или самостоятельно делать какие-нибудь усилия, вроде укола или искусственного дыхания.
Она просто стояла и молча констатировала смерть.
И тогда я понял, что все эти люди – смертники. И что их не спасти. А если бы и можно было спасти, то не стоило бы этого делать, чтобы насильственным образом не продлевать их невыносимые мучения.
И я понял, что те формулы, которые писал в лаборатории кто-то похожий на меня, были лекарством для этой палаты безнадежных. И они все умерли, один за другим. А помимо них, еще множество людей с тем же диагнозом.
Умерли. Что ж… все умирают.
Но эти конкретные просто из-за того, что я пошел в торговое училище.
И вот тут он прервался и заплакал.
6
Притча о человеке, который ничего не смел
Он боялся сказать то, что думал, в лицо.
И запачкать рубашку цветочной пыльцой.
И не в ногу шагнуть, если в общем строю.
И под письмами выставить подпись свою.
И без зонтика выйти в безоблачный день.
И прослыть несолидным у важных людей.
И сидеть в кинозале в последнем ряду.
И ходить, не сутулясь, у всех на виду.
Он боялся раздоров и в драку не лез.
Жил без крепких напитков и крепких словес.
Он немытые яблоки есть не привык.
И хранил от покупок и чек, и ярлык.
Он боялся контрастов и ярких цветов.
Никогда к переменам он не был готов.
Карту взять из колоды страшился не ту.
И, в очках не нуждаясь, играл в слепоту.
Он боялся товаров по льготной цене.
И система на нем отыгралась вполне:
После смерти его без излишней возни
В уцененном гробу на покой отвезли.
А над крышкой средь комьев земли улеглась
Взвесь несделанных дел и несказанных фраз.
И над ними для верности камень притих
С эпитафией жизни: от сих и до сих.
Как выяснилось, несостоявшийся фармацевт имел в запасе еще несколько печальных историй.
Вторая история из зеркальной комнаты
Сначала я выучился на продавца, а, успешно закончив практику, начал метить и в товароведы.
Распределили меня удачно: на кондитерскую фабрику, где, как каждому ясно, можно было неплохо поживиться. Шоколад и конфеты ведь все любят, и валюта эта в системе социальных отношений отдельно взятых индивидов никогда не обесценивается.
Выносить конфеты со склада я начал почти сразу. И ничуть не боялся, потому что все у нас это делали. Даже почти неприкрыто: когда проходили через проходную, не особо беспокоились, что карманы топорщатся, а из сумок и портфелей торчат коробки с ассорти.
Шоколадные кругляшки со сладкой помадкой внутри работницы фабрики брали прямо с конвейера и клали себе в рот. Потом ими же, уже завернутыми в яркие блестящие фантики и вновь освобожденными от оных, закусывали в перерыве: кто – чай, кто – водку.
И жили припеваючи. Все: от сторожа до замдиректора. А вот директор был странный: совсем иной породы.
Трудно поверить, но, похоже, что он совсем не воровал. То ли сладкого не любил, то ли честным был от природы. Но у него никогда ничего, ни конфет, ни шоколадок, – ниоткуда не торчало.
Некоторые из наших сотрудников поговаривали, правда, что в директорскую честность ни капельки не верят. Честных людей, мол, и вообще не бывает. А тем более не может быть честным человеком тот, кто дослужился до такого солидного поста. А стало быть, ворует он, но… по-крупному. Не так, как мы, простые смертные (тут рассказчик ненадолго прервался и призадумался, видимо только здесь и сейчас впервые осознав всю горечь употребленного им классического выражения). Не коробками, а тоннами: машинами, товарными вагонами. Потому-то карманы и не топорщатся.
Но я тогда думал, что, может, он и взаправду такой особенный. А сейчас-то я уже это точно знаю: в зеркале подглядел.
В общем, не нравился нашим работникам директор. Как-то при нем несподручно было. И за производством он как-никак, а присматривал. И заму своему особо разгуляться не давал.