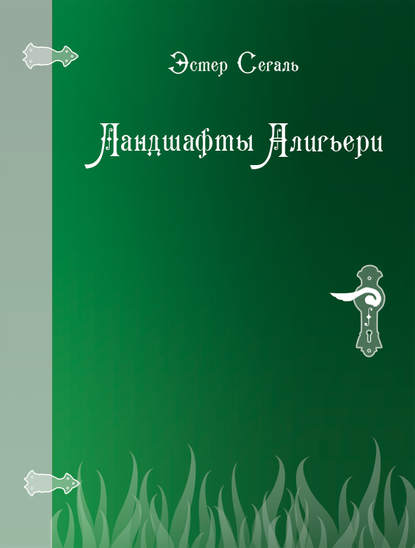По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ландшафты Алигьери
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это я, да, смутно припоминал.
– Вот-вот! – радостно закивал Жан Поль, обнаружив в моих глазах искру понимания, и снова залился соловьем, на этот раз еще больше интонируя и изображая беседу хозяина глобуса с Маргаритой в лицах:
«Рядом с Воландом на постели, на тяжелом постаменте, стоял странный, как будто живой и освещенный с одного бока солнцем глобус…
Он… стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный столь искусно, что синие океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала, как настоящая, ледяная и снежная…
– Кровь – великое дело, – неизвестно к чему весело сказал Воланд и прибавил: – Я вижу, что вас интересует мой глобус.
– О да, я никогда не видела такой вещицы.
– Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто нарочно таких подбирают. Мой глобус гораздо удобнее, тем более что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали.
Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка.
– Вот и все, – улыбаясь, сказал Воланд, – он не успел нагрешить…»
– Все понятно! – я решительно прервал монологи Сартра, опасаясь, что он сейчас обратится еще к какому-нибудь литературному произведению. О его начитанности (если учесть, что она возрастала и после смерти) я уже был достаточно высокого мнения. – Так какого же рода зеркало находится внутри этой будки?
– О… – посерьезнел мой проводник. – У этого зеркала весьма любопытные свойства. В нем последовательно отражается вся жизнь испытуемого. Но не так как он ее лично мог бы припомнить: эпизод за эпизодом, а, так скажем, со всеми последствиями его поступков.
Ну, например, представим, опаздываете Вы на автобус и мчитесь к нему, пока двери не захлопнулись. И по сторонам не глядите. А на улице, между прочим, гололед. А вокруг, также, между прочим, другие люди.
И среди них, допустим, юная пианистка, которая готовится к международному конкурсу, который через два дня. И она-то как раз не спешит, а медленно и чинно, дыша по дороге в консерваторию оздоровительным воздухом, продвигается на репетицию.
Но Вы не замечаете это нежное создание и задеваете ее мощным атлетическим плечом…
Тут я бросил взгляд на свои плечи и, будучи ревнителем правды, посчитал своим долгом возразить Сартру:
– У меня довольно узкие плечи.
– Это сейчас неважно! – категорически отринул мое возражение проводник. – Это лишь фантазия. И в моей фантазии у Вас атлетические плечи. Одним из которых, между прочим, Вы задеваете девушку, и она, деликатно ойкнув, падает на лед. И естественно, как и все прочие люди в случае внезапного падения, инстинктивно подставляет под себя руку.
А руки у нее нежные, как и полагается пианистке. И пальцы тонкие. И один из них ломается со страшным хрустом (тут Сартр постарался изобразить губами хруст, и это у него неплохо получилось). И вот – перелом.
В другой ситуации оно бы и ничего. Главное, голова, ну, там еще и позвоночник – целы. Но она-то к международному конкурсу готовилась. И это была мечта всей ее жизни.
Ан нет, сорвалось. От мечты пришлось отказаться. Да еще и перелом оказался со смещением. И палец (тут Сартр выставил напоказ свой явно не пианистский перст) – криво сросся. И с музыкальной карьерой (все предыдущие годы – насмарку) девушке приходится распрощаться. И, она, злым роком и Вами-торопыгой ввергнутая в депрессию, однажды не выдерживает и кончает жизнь самоубийством, прыгнув на рельсы в метрополитене. Ну, или головою в омут. Как Вам больше нравится.
– Мне большое нравится, чтобы она отравилась фосфором, – не пряча иронии, подыграл я.
– Пусть будет! – милостиво согласился Жан-Поль и тут же продолжил: – И и вот в этой, как Вы изволили выразиться, «будке», или, как она на самом деле называется, «зеркальной комнате», Вам и показывают в зеркале все (обратите внимание: абсолютно все) последствия всех последствий всех продолжений всех Ваших начинаний!
И, несмотря на то, что Сартр тут явно загнул с предложением, я его понял. И тут же воскликнул:
– Но чтобы все это просмотреть, на это же никакой жизни не хватит.
– Это земной жизни никакой не хватит. Но я-то Вам уже объяснил, что здесь время течет по-иному. Так что всем всего хватает. И никто при этом не торопится. И не бежит сломя голову. И не ломает соседям по тротуару пальцы.
Последнюю реплику проводник бросил с явной укоризной, как будто палец я, действительно, кому-то сломал.
– А почему дверь заперта снаружи? – наконец задал я вопрос, как мне показалось, по существу. – Это разве не противоречит вашим правилам добровольного наказания.
– А вот слова «наказания» я не употреблял, если Вы заметили, – серьезнейшим образом отреагировал Сартр. – И Вам не советую.
– Так разве же в аду не наказывают?
– Вовсе нет.
– Тогда что же здесь делают?
– Вот обживетесь немного, поймете, – пообещал Сартр. – А пока верну Вас к предыдущему вопросу: зачем дверь заперта снаружи.
– И зачем же?
– Это надо не для того, чтобы насильно удерживать того, кто находится внутри. Это надо для того, чтобы, в случае если дверь случайно приоткроется от порыва ветра (тут я удивленно вскинул брови, ибо ветра, как я уже писал, по моим наблюдениям, в этих местах и не бывало), в зеркале не отразилось чего-нибудь лишнего. Чужой жизни, например.
– Да что здесь может отразиться? Тут же голое поле кругом.
– Не скажите, – покачал головою Жан Поль.
– Ну, и не скажу – я уже привык с ним постоянно соглашаться.
– А как же мы внутрь войдем? Дверь как откроем? Ведь отразится что-нибудь не то!
Сартр улыбнулся улыбкой учителя, убедившегося, что первоклашка делает успехи.
– Он сам нам откроет, – многозначительно протянул он. – Потому что его время пришло!
5
Там вздохи, плач и исступленный крик
Во тьме беззвездной были так велики,
Что поначалу я в слезах поник.
Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и всклики
Сливались в гул, без времени, в веках,
Кружащийся во мгле неозаренной,
Как бурным вихрем возмущенный прах.
И я, с главою, ужасом стесненной:
«Чей это крик? – едва спросить посмел. —
Какой толпы, страданьем побежденной?»
И вождь в ответ: «То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
– Вот-вот! – радостно закивал Жан Поль, обнаружив в моих глазах искру понимания, и снова залился соловьем, на этот раз еще больше интонируя и изображая беседу хозяина глобуса с Маргаритой в лицах:
«Рядом с Воландом на постели, на тяжелом постаменте, стоял странный, как будто живой и освещенный с одного бока солнцем глобус…
Он… стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный столь искусно, что синие океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала, как настоящая, ледяная и снежная…
– Кровь – великое дело, – неизвестно к чему весело сказал Воланд и прибавил: – Я вижу, что вас интересует мой глобус.
– О да, я никогда не видела такой вещицы.
– Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто нарочно таких подбирают. Мой глобус гораздо удобнее, тем более что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали.
Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка.
– Вот и все, – улыбаясь, сказал Воланд, – он не успел нагрешить…»
– Все понятно! – я решительно прервал монологи Сартра, опасаясь, что он сейчас обратится еще к какому-нибудь литературному произведению. О его начитанности (если учесть, что она возрастала и после смерти) я уже был достаточно высокого мнения. – Так какого же рода зеркало находится внутри этой будки?
– О… – посерьезнел мой проводник. – У этого зеркала весьма любопытные свойства. В нем последовательно отражается вся жизнь испытуемого. Но не так как он ее лично мог бы припомнить: эпизод за эпизодом, а, так скажем, со всеми последствиями его поступков.
Ну, например, представим, опаздываете Вы на автобус и мчитесь к нему, пока двери не захлопнулись. И по сторонам не глядите. А на улице, между прочим, гололед. А вокруг, также, между прочим, другие люди.
И среди них, допустим, юная пианистка, которая готовится к международному конкурсу, который через два дня. И она-то как раз не спешит, а медленно и чинно, дыша по дороге в консерваторию оздоровительным воздухом, продвигается на репетицию.
Но Вы не замечаете это нежное создание и задеваете ее мощным атлетическим плечом…
Тут я бросил взгляд на свои плечи и, будучи ревнителем правды, посчитал своим долгом возразить Сартру:
– У меня довольно узкие плечи.
– Это сейчас неважно! – категорически отринул мое возражение проводник. – Это лишь фантазия. И в моей фантазии у Вас атлетические плечи. Одним из которых, между прочим, Вы задеваете девушку, и она, деликатно ойкнув, падает на лед. И естественно, как и все прочие люди в случае внезапного падения, инстинктивно подставляет под себя руку.
А руки у нее нежные, как и полагается пианистке. И пальцы тонкие. И один из них ломается со страшным хрустом (тут Сартр постарался изобразить губами хруст, и это у него неплохо получилось). И вот – перелом.
В другой ситуации оно бы и ничего. Главное, голова, ну, там еще и позвоночник – целы. Но она-то к международному конкурсу готовилась. И это была мечта всей ее жизни.
Ан нет, сорвалось. От мечты пришлось отказаться. Да еще и перелом оказался со смещением. И палец (тут Сартр выставил напоказ свой явно не пианистский перст) – криво сросся. И с музыкальной карьерой (все предыдущие годы – насмарку) девушке приходится распрощаться. И, она, злым роком и Вами-торопыгой ввергнутая в депрессию, однажды не выдерживает и кончает жизнь самоубийством, прыгнув на рельсы в метрополитене. Ну, или головою в омут. Как Вам больше нравится.
– Мне большое нравится, чтобы она отравилась фосфором, – не пряча иронии, подыграл я.
– Пусть будет! – милостиво согласился Жан-Поль и тут же продолжил: – И и вот в этой, как Вы изволили выразиться, «будке», или, как она на самом деле называется, «зеркальной комнате», Вам и показывают в зеркале все (обратите внимание: абсолютно все) последствия всех последствий всех продолжений всех Ваших начинаний!
И, несмотря на то, что Сартр тут явно загнул с предложением, я его понял. И тут же воскликнул:
– Но чтобы все это просмотреть, на это же никакой жизни не хватит.
– Это земной жизни никакой не хватит. Но я-то Вам уже объяснил, что здесь время течет по-иному. Так что всем всего хватает. И никто при этом не торопится. И не бежит сломя голову. И не ломает соседям по тротуару пальцы.
Последнюю реплику проводник бросил с явной укоризной, как будто палец я, действительно, кому-то сломал.
– А почему дверь заперта снаружи? – наконец задал я вопрос, как мне показалось, по существу. – Это разве не противоречит вашим правилам добровольного наказания.
– А вот слова «наказания» я не употреблял, если Вы заметили, – серьезнейшим образом отреагировал Сартр. – И Вам не советую.
– Так разве же в аду не наказывают?
– Вовсе нет.
– Тогда что же здесь делают?
– Вот обживетесь немного, поймете, – пообещал Сартр. – А пока верну Вас к предыдущему вопросу: зачем дверь заперта снаружи.
– И зачем же?
– Это надо не для того, чтобы насильно удерживать того, кто находится внутри. Это надо для того, чтобы, в случае если дверь случайно приоткроется от порыва ветра (тут я удивленно вскинул брови, ибо ветра, как я уже писал, по моим наблюдениям, в этих местах и не бывало), в зеркале не отразилось чего-нибудь лишнего. Чужой жизни, например.
– Да что здесь может отразиться? Тут же голое поле кругом.
– Не скажите, – покачал головою Жан Поль.
– Ну, и не скажу – я уже привык с ним постоянно соглашаться.
– А как же мы внутрь войдем? Дверь как откроем? Ведь отразится что-нибудь не то!
Сартр улыбнулся улыбкой учителя, убедившегося, что первоклашка делает успехи.
– Он сам нам откроет, – многозначительно протянул он. – Потому что его время пришло!
5
Там вздохи, плач и исступленный крик
Во тьме беззвездной были так велики,
Что поначалу я в слезах поник.
Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и всклики
Сливались в гул, без времени, в веках,
Кружащийся во мгле неозаренной,
Как бурным вихрем возмущенный прах.
И я, с главою, ужасом стесненной:
«Чей это крик? – едва спросить посмел. —
Какой толпы, страданьем побежденной?»
И вождь в ответ: «То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная