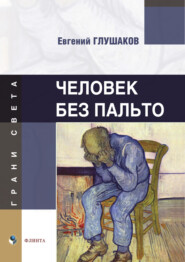По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История моей жизни, или Полено для преисподней
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Всё те же неизменные проблемы с незанятым местом и свободным тазиком. Да и голоштанная суть всё та же. Можно сказать, развлечение для бедных. Но это в прежнюю, дикую пору. Теперь, вероятно, всё выглядит если не иначе, то хотя бы по-другому…
Сначала мы с отцом тёрли друг другу спины и мылись самостоятельно. Потом отец мыл мне голову. Затем, набрав по тазику ледяной воды, мы отправлялись в парилку, где в густом влажном пару уже непременно восседало несколько человек и хлёстко обмахивалось берёзовыми вениками.
Полок было четыре. Шероховатые, мокрые, они поднимались высокими деревянными ступенями, и, делаясь всё менее и менее различимыми, исчезали где-то под потолком, отчего парившихся на самом верху вовсе не было видно за густой толщей горячего-прегорячего пара.
Отец, случалось, поднимался и на четвёртую полку, а для меня и первой было много. Воздух был настолько жарок, что я наклонялся над тазиком с холодной водой и буквально приникал к ней широко раскрытым ртом. Так легче дышалось. И, конечно же, непрерывно оплёскивал себя, зачерпывая спасительный холод сразу двумя ладонями.
И как же я радовался окончанию мучительной процедуры, когда мы буквально, как ошпаренные, выскакивали из парилки и выливали на себя ещё по тазику ледяного блаженства. После чего выходили из моечного отделения и неспешно одевались. И уже на выходе всякий раз выпивали в банном буфете: отец – кружку пива, а я – стакан розоватого пенящегося крюшона.
Однажды, только-только вернувшись в раздевалку, мы застали начальника части полковника Ерёменко, уже в белой байковой рубахе и кальсонах. Он сидел на лавке и, как положено первому лицу городка, не один, а в подобострастном заискивающем окружении. И поза его, исполненная гордой снисходительности, была почти величественна.
Обменявшись с отцом обычным банным приветствием «С лёгким паром!», Ерёменко добавил что-то начальственно-шутливое и отец, вынужденный задержаться на входе, что-то ему ответил и тоже в шутку.
При этом он стоял, а тот сидел, при этом отец был раздет, а тот уже в нижнем белье. И холуи, окружавшие своего высокомерного начальника, угодливо смеялись. И было мне горько и жалко смотреть на папу в таком невыгодном для него положении.
Замечу, что отца в части не любили. Должно быть, за то, что он никогда никому не позволял над собой издеваться и на всякую подлость давал отпор. Ну, а в ответ рикошетом перепадало и нам, детям.
Письма пишет?
Однажды, когда я подходил к дому, меня остановили мужчины, сидевшие на лавочке перед подъездом. И один из них обратился ко мне:
– Скажи, жидок, чем занимается сейчас твой отец? Письма пишет?
Придя домой, я сейчас же сообщил отцу об очередном оскорблении в наш адрес. И он, конечно же, не оставил обидчика без наказания. Написал рапорт, и остряку, захотевшему посмеяться над семилетним мальчишкой, пришлось за шутки свои публично извиняться.
Сколько помню, папа всегда находился в постоянной борьбе за свою честь и вообще за справедливость. Он и билета партийного лишился именно в силу присущей ему принципиальности. А случилось это в тридцатые, после насильственно проведённой коллективизации, когда вожди были вынуждены признаться в допущенных перегибах.
И вот на одном из партийных собраний отец, в ту пору ещё совсем молодой, не семейный, поднялся и спросил, почему партия эти перегибы допустила, куда смотрела?
На него тут же принялись кричать: дескать, как он смеет осуждать партию. Тогда отец, недолго думая, подошёл к президиуму и положил на стол свой партийный билет. И, сколько его потом не уговаривали взять билет обратно, остался твёрд. И происходило это в самый разгар сталинских репрессий.
Невольно сравнивая себя с отцом, вижу, как я слаб и ничтожен. Сколь много всякой неправды и несправедливости творилось на моих глазах, и я пасовал перед ними. Сколько унижений и обид было мною проглочено из равнодушия, лени или страха.
А мой, может быть, ещё более слабый, ещё более беззащитный отец оставался бесстрашен и нетерпим ко всякой подлости и всякому лицемерию до последних дней своей жизни. И, даже будучи глубоким под девяносто лет стариком, случалось, вставал на мою защиту. Стыдно и больно об этом думать, горько – понимать.
Обратился к самому Ворошилову
Замечу, что справедливость едва ли является чем-то насущно необходимым в армии. Куда важнее дисциплина и субординация. Без них армия – не армия, а дискуссионный клуб.
Поэтому стезя военного связиста не совсем соответствовала вспыльчивому бескомпромиссному характеру отца, наделённого гипертрофированным чувством правды. И когда начальство предприняло попытку уволить строптивого майора, ему, может быть, следовало покориться и перейти на гражданскую службу.
Только мог ли отец стерпеть подобный произвол?
Поехал в Москву, добился приёма у Климента Ефремовича Ворошилова, и происки неприятелей развеялись как дым. Этакая бойцовская, исполненная достоинства и отваги натура.
Выходит, что в армии отцу было самое место, хотя бы в качестве мужественного примера для курсантов-лётчиков, которым он преподавал. Особенно в начале сороковых, когда прямо из учебных аудиторий они отправлялись на фронт, чтобы в смертельном бою поддерживать надёжную радиосвязь с эскадрильей, с полком, с Родиной.
«По долинам и по взгорьям…»
Деревня «Бобровичи», где я учился в школе, располагалась примерно в двух километрах от воинской части за безлесным холмом, на пологой ямистой макушке которого стоял отслуживший своё и уже частично разобранный самолёт.
Весной и осенью мы покрывали это расстояние пешком. А зимой туда и обратно нас доставляла военная грузовая машина «ЗИС», крытая брезентом. Родители гарнизонных ребятишек дежурили на ней поочерёдно.
Помню, как в нашу очередь мы с мамой, встав раньше обычного, отправились за машиной в гараж. Было темно и морозно. На капоте грузовика красовался стёганый не то «намордник», не то тулупчик. Это для утепления мотора. Иначе в такой холод не завестись. В этот день я ехал с мамой в кабине. На редкость удобно, тепло и, главное, почётно.
В особенно студёные дни все рвались занять места в глубине кузова, поближе к переднему борту. Ну, а когда потеплей, норовили оказаться на последнем ряду дощатых лавок, чтобы не сидеть в темноте, но дышать свежим воздухом через входной проём брезентовой покрышки.
Выезжали затемно и в дороге обычно распевали песни, которых знали великое множество, в основном из популярных кинофильмов: «По долинам и по взгорьям…», «Варяг», «Шёл отряд по берегу…». Кто побойчей, затягивал, остальные подхватывали и горланили, что было мочи. Тоже не бесполезное занятие – лудили глотку.
Учился я в ту пору на одни пятёрки. Старался. И буковки выводил с удовольствием. Напишу строчку крючочков-палочек и, пока чернила не высохли, бегу к маме или к сестре, показываю: мол, смотрите, как получилось ровно да красиво! А строчка и в самом деле блестит, искриться при электрическом свете.
Красота!
Однако не всем успехи мои казались заслуженными. Помню, как мамаша моего одноклассника Саши Кулигина однажды подстерегла меня при возвращении из школы и, потребовав тетрадки, ревниво их просмотрела, недоумевая, почему отметки её сына ниже.
Клубные развлечения
В Бобровичах между солдатскими казармами и офицерским жильём не было даже обыкновенного забора. И кинотеатр был общий, и репертуар не отличался. А поскольку на взрослые сеансы детям ходить не полагалось, мы, гарнизонная ребятня, норовили пробраться к солдатам. Случалось, часами простаивали возле чёрного, без стекла, квадратика оконной рамы, ведущего прямо на сцену. Всё решали – кому лезть первым.
Бывало и такое, что проникали в клуб заранее, прятались и терпеливо дожидались, когда начнётся фильм. Как-то раз мы, несколько гарнизонных мальчишек, притаились под фанерными тумбочками, что-то вроде пюпитров, на которых оркестранты расставляют ноты. Однако были разоблачены уборщицей. Перед тем как вымыть полы в фойе кинотеатра, стала она эти тумбочки передвигать. Тут мы и обнаружились.
Естественно, что на всякий праздник в клубе давался концерт. Выступали певцы и танцоры, чтецы и гимнасты, фокусники и музыканты. Помню акробатический номер, исполняемый силачом-офицером по фамилии Резник и двумя миниатюрными одноклассницами моего брата. Сцены они почти не касались, но живыми баранками висели на бугристой мускулатуре офицера или перекатывались по его плечам и спине. Детвора восторженно рукоплескала, а взрослые иронически улыбались.
Когда же на сцене появлялся военный оркестр, я непременно выбирался из ряда, вставал в сторонке и принимался размахивать руками, подражая движениям дирижёра. При этом едва ли не мечтал когда-нибудь и впрямь управлять такой же грохочущей, поющей и слепящей медью.
А ещё в эту пору я до самозабвения любил танцы. Приглашал самых симпатичных девочек и, высоко приподнимая ноги в такт звучащей музыке, переминался с большим старанием и неизменным удовольствием.
Однажды на новогоднем утреннике я это проделывал на пару с Ирой, которая училась вместе со мной во втором классе. И была она выше меня на голову, светловолоса, а также имела совершенно очаровательные огромные светло-голубые глаза, постоянно выражавшие изумление.
Её руки доверчиво покоились у меня на плечах, мои – у неё на талии. На обоих – серые чуть ли не до колена валенки. Уже несколько танцев без перерыва мы топтались и топтались под меняющиеся ритмы оркестрового сопровождения. Вдруг к нам подошла наша одноклассница и предложила Ире потанцевать с ней. Ира повернула голову, посмотрела на подружку с не проходящим изумлением и сказала:
– Мне с ним больше нравится.
Это был мой первый, а к тому же самый крупный танцевальный успех.
Нижнеудинск
Было мне девять лет, когда нашу воинскую часть перевели из Белоруссии в Сибирь. Естественно, что солдат перевозили эшелонами. Да и большинство офицерских семей тоже согласились совершить таковой переезд в теплушках, поскольку это было бесплатно.
В купейном закутке
Однако моим родителям показался предпочтительней купированный вагон. Тем более что нас было ровно четверо: папа, мама, брат и я – по числу мест в купе. А сестра в эту пору уже окончила школу и училась в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта.
Впрочем, думаю, что главным аргументом в пользу более цивилизованной формы передвижения было здоровье детей. Особенно же родители опасались за меня, ещё совсем недавно переболевшего тяжелейшим воспалением лёгких. Едва выходили.
Но мы с братом, конечно же, завидовали тем, кто поехал в эшелоне. Во-первых, эшелон тянулся очень долго, чуть ли ни месяц, так что нам, домчавшимся до Нижнеудинска дней за шесть, пришлось-таки изрядно поскучать, дожидаясь друзей-приятелей. Во-вторых, в эшелоне ехали все вместе. Подолгу стояли на каждой станции, ходили в гости друг к другу.
То-то было весело!