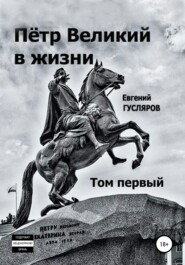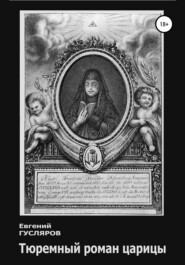По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он вдруг хватает меня за плечи так, что сам становится лицом к закату, и я вижу его пожелтевшие, полные непонятного страха глаза. Он тяжело дышит и хрипит:
– Слушай! Только никому ни слова! Я тебе правду скажу! Я боюсь милиции! Понимаешь? Боюсь!..».
В другом месте:
«Мы только что удрали от милиционера, который, по его мнению, следил за нами.
У ворот он останавливается, чтобы передохнуть.
– Фу! Понимаешь? Еле спаслись!..
– Сергей! Ты – болен! Подумай сам! Что тебе может сделать милиция?
– Молчи! Они следят за мной! Понимаешь! Следят!
Он оборачивается… и дрожащими руками берёт папиросу.
– А может быть и так: я в самом деле – болен…».
Василий Наседкин вспоминал:
«Идя в Госиздат через Кузнецкий мост, мы закурили. Минуты через две Есенин, замедляя шаги, стал осматриваться.
– Ты что ищешь, Сергей?
Есенин с озабоченным видом показал мне на смятый окурок в руке.
– Урны не видать.
Он нерешительно бросил окурок под сточную трубу, а, бросив, оглянулся на далеко стоящего милиционера.
Есенин накануне слышал, что окурки бросать на улице нельзя».
Возможно, болезненное в Есенине действительно было. Но болезнь эта была как раз не в том, что он боялся милиционеров. Болезнь, если она была, то была производной от этих самых милиционеров. Хроника тогдашней его жизни была такова, что милиция принимала в ней активное и живейшее участие. И это, конечно, не могло не отразиться на психическом состоянии поэта.
Опять В. Эрлих. Он изображает типичную картинку в каком-нибудь поэтическом кафе той поры: «Пока сидит Есенин все – настороже. Никто не знает, что случиться в ближайшую четверть часа: скандал, безобразие? В сущности говоря, все мечтают о той минуте, когда он, наконец, подымется и уйдёт. И всё становится глубоко бездарным, когда он уходит…».
То, что изложено будет дальше, может произвести непростое впечатление, потому тут надо кое-что пояснить. Срывы Есенина, которые призводили тяжёлое, шокирующее действие на современников, объяснить сложно, но и просто.
Галина Бениславская, знавшая дело, пожалуй, лучше других, поясняла следующее:
«Много, очень много уходило и ушло в стихи, но он сам говорил, что нельзя ему жить только стихами, надо отдыхать от них. Отдыхать было не на чем. Оставались женщины и вино. Женщины скоро надоели. Следовательно – только вино, от которого он тоже хотел бы избавиться, но не было сил, вернее, нечем было заменить, нечем было заполнить промежутки между стихами…».
В другом месте она вспомнила такие его слова:
– Не могу же я целый день писать стихи. Мне надо куда-то уйти от них, я должен забывать их, иначе я не смогу писать, – не раз говорил он в ответ на рассуждения, что нельзя такое дарование губить вином…
Тот же В. Эрлих:
«Утром он говорит:
– У меня нет соперников и потому я не могу работать.
В полдень он жалуется:
– Я потерял дар…».
«Вне стихов ему было скучно. Они словно высасывали из него все соки», – заметила Софья Виноградская.
Хочу предупредить, что у меня не было желания собрать «клубничку» о великом человеке. Есть желание показать, как непросто жить в России, на земле, с Божьим даром. Быть обречённым на одиночество, потому что одиночество разделить не с кем. Одиночество можно разделить с равным, а таковых нет, ни среди мужчин, и, что особенно тяжко, ни среди женщин. Остаётся возможность забыться в вине или буйстве. А то – сразу в том и другом. Это роднит все незаурядные русские натуры. Понимать и принимать их рядовому большинству бывает трудно. В столкновении меньшинства и большинства – проигрывает и гибнет меньшинство. А это и есть самая большая трагедия большинства – остаться лишь бесцветным количеством…
Вот первая из широко известных «хулиганских» сцен. Происходит она в известном кафе поэтов «Домино».
И само это кафе, и сцену в нём подробно описал поэт Николай Полетаев:
«В нём было два зала: один для публики, другой для поэтов. Оба зала в эти годы, когда было всё закрыто, а в “Домино” торговля производилась до двух часов ночи, были всегда переполнены. Здесь можно было разного рода спекулянтам и лицам неопределённых профессий послушать музыку, закусить хорошенько с “дамой”, подобранной с Тверской улицы, и т. д. Поэты, как объяснил мне потом один знакомый, были здесь “так, для блезиру”, но они, конечно, этого не думали. Наивные, они и не подозревали, как за их спиной набивали карманы содержатели всех этих кафе, да поэтам и деваться было некуда. Спекулянты и дамы их, шикарно одетые, были жирны, красны, много ели и пили. Бледные и дурно одетые поэты сидели за пустыми столами и вели бесконечные споры о том, кто из них гениальнее. Несмотря на жалкий вид, они сохранили ещё прежние привычки и церемонно целовали руки у своих жалких подруг. Стихи, звуки – они все любили до глупости. Вот обстановка, в которой в 1919 году царил Есенин…».
Далее излагается суть происшедшего:
«Нас, молодых, выдвигавшихся тогда поэтов из Пролеткульта, пригласили читать стихи в “Домино”. Есенин тогда гремел и сверкал, и мы очень обрадовались, узнав, что и он в этот вечер будет читать стихи. Он стоял, окружённый неведомыми миру “гениями” и “знаменитостями”, очаровывая всех своей необычной улыбкой. Характерная подробность: улыбка его не менялась в зависимости от того, разговаривал ли он с женщиной или с мужчиной, а это очень редко бывает. Как ни любезно говорил он со всеми, было заметно, что этот “крестьянский сын” смотрел на них как на подножие грядущей к нему славы. Нервности и неуверенности в нём не было. Он уже был “имажинистом” и ходил не в оперном костюме крестьянина, а в “цилиндре и лакированных башмаках”. Я полюбил его издалека, чтобы не обжечься. В этот вечер он сделал очередной большой скандал.
Когда мои товарищи читали, я с беспокойством смотрел на них и на публику. Они робели, старались читать лучше и оттого читали хуже, чем всегда, а публика, эта публика в мехах, награбленных с голодающего населения, лениво побалтывала ложечками в стаканах дрянного кофе с сахарином и даже переговаривалась между собой, нисколько не стесняясь. Мне пришлось читать последнему. После меня объявляют Есенина. Он выходит в меховой куртке, без шапки. Обычно улыбается, но вдруг неожиданно бледнеет, как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит:
– Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к …! Спекулянты и шарлатаны!..
Публика повскакала с мест. Кричали, стучали, налезали на поэта, звонили по телефону, вызывали “чеку”. Нас задержали часов до трёх ночи для проверки документов. Есенин, всё так же улыбаясь, весёлый и взволнованный, притворно возмущался, отчаянно размахивал руками, стискивая кулаки и наклоняя голову “бычком” (поза дерущегося деревенского парня), странно, как-то по-ребячески морщил брови и оттопыривал красные, сочные красивые губы. Он был доволен…».
Сцена эта и есть, возможно, первая из тех, которая зафиксирована казёнными словами милицейских протоколов. Их разыскал профессиональный следователь Эдуард Хлысталов. Особенности протокольных текстов сохранены.
«Тов. Мессингу!
11 января 1920 года 11 часов вечера, когда я шёл домой от т. Эйдука по Тверской ул., я услышал, что публика кричит на поэтов, что с эстрады нельзя ругать по матушки, чуть дело не дошло до драки, я ликвидировал скандал, потом явился комиссар Рэкстейн и принял некоторые заявления от публики и протокол».
Это показания чекиста Шейкмана из уголовного дела № 10055 тогдашней Московской ЧК.
Явившаяся комиссар А. Рэкстень более обстоятельно описала произошедшее:
«11 января 1920 года по личному приказу дежурного по Комиссии тов. Тизенберга, я, комиссар М. Ч. К. опер. части А. Рекстень, прибыла на Тверскую улицу в кафе “Домино” Всероссийского Союза Поэтов и застала в нём большую крайне возбуждённую толпу посетителей, обсуждающих только что происшедший инцидент. Из опроса публики я установила следующее: около 11 часов вечера на эстраде появился член Союза Сергей Есенин и, обращаясь к публике, произнёс площадную грубую до последней возможности брань. Поднялся сильный шум, раздались крики, едва не дошедшие до драки. Кто-то из публики позвонил в М. Ч. К. и просил прислать комиссара для ареста Есенина. Скандал до некоторой степени до моего прихода в кафе был ликвидирован случайно проходившим по улице товарищем из В. Ч. К. Шейкманом. Ко мне поступило заявление от президиума Союза Поэтов, в котором они снимают с себя ответственность за грубое выступление своего члена и обещаются не допускать подобных выступлений в дальнейшем.
Мои личные впечатления от всей этой скандальной истории сложились в крайне определённую форму и связаны не только с недопустимым выступлением Есенина, но и о кафе как таковом. По характеру своему это кафе является местом, в котором такие хулиганские выступления являются почти неизбежными, так как и состав публики и содержание читаемых поэтами своих произведений вполне соответствуют друг другу. Мне удалось установить из проверки документов публики, что кафе посещается лицами, ищущими скандальных выступлений против Советской власти, любителями грязных безнравственных выражений и т.п. И поэты, именующие себя футуристами и имажинистами, не жалеют слов и сравнений, нередко настолько нецензурных и грубых, что в печати недопустимых, оскорбляющих нравственное чувство, напоминающих о кабаках самого низкого свойства. В публике находились и женщины – и явно – хулиганские выступления лиц, называющих себя поэтами, становятся тем более невозможными и недопустимыми в центре Советской России.
Единственная мера, возможная к данному кафе – это скорейшее его закрытие.
Комиссар М. Ч. К. А. Рэкстень».
В деле есть несколько листов с показаниями «потерпевших»:
«Леви Семён Захарович, мещанин Таврической губ. 28 лет, сотрудник Наркомпрод показал следующее: В воскресенье 11 января 1920 года я с компанией моих знакомых Надежда и Татьяна Лобиновых (Страстной бульвар) и т. Карпов сотрудник Наркомпрода организационного отдела, сидя в кафе поэтов по Тверской дом 18. Один из поэтов Союза Есенин выражался с руганью по матушке…».