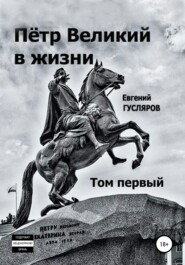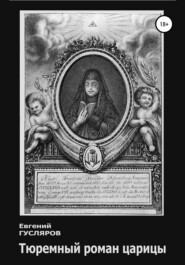По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прошу Вас оказать содействие – Воронскому и мне – чтобы спасти жизнь известного поэта Есенина – несомненно, самого талантливого в нашем Союзе.
Он находится в очень развитой степени туберкулёза (?) (захвачены и оба легких, температура по вечерам и пр.). Найти куда его послать на лечение не трудно. Ему уже предоставлено было место в Надеждинском санатории под Москвой, но несчастье в том, что он вследствие своего хулиганского характера и пьянства не поддается никакому врачебному воздействию.
Мы решили, что единственное ещё остается средство заставить его лечиться – это Вы. Пригласите его к себе, проберите хорошенько и отправьте вместе с ним в санаторию товарища из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать. Жаль парня, жаль его таланта, молодости. Он много ещё мог бы дать не только благодаря своим необыкновенным дарованиям, но и потому, что, будучи сам крестьянином, хорошо знает крестьянскую среду.
Зная, что Вас нет в самой Москве, решился написать, но удалось это сделать только с дороги – из Себежа.
Желаю Вам здоровья.
Крепко жму руку.
X. Раковский.
Чуть ниже стоит приписка Дзержинского:
Т. Гарсону.
М. б. Вы могли бы заняться? Ф. Д.».
И ещё одно, последнее уголовное дело, было заведено, несмотря на тот милицейский запрет, но уже на мёртвого поэта, и именно по факту его гибели. Это дело не закончено и по сию пору. Хотя в нём появилось уже до двадцати настоящих книжных увлекательных томов, один другого доказательней…
Анатолий Мариенгоф, пытаясь объяснить то, что изложено выше, скажет: «Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя хулиганом в поэзии и в жизни».
И ещё в одном месте: «Есенин вязал в один венок поэтические свои прутья и прутья быта. Он говорил:
– Такая метла здоровше.
И расчищал ею путь к славе…».
Впрочем, не верится всё-таки, чтобы Есенин формировал себя именно в этом направлении столь натуженно, с рутинной настойчивостью и упорством, достойными плохого актёра и скверного человека.
Вечный свет:
Трагический исход этой жизни объясняли по-разному. Но, в основном, не понимая его. Даже крупные и проницательные умы не могли постичь этой трагедии, поскольку судили поспешно и лишь по самым ярким внешним проявлениям. Внешнее в Есенине всегда затмевало то, что скрыто было от глаз в тайниках души.
Эти поспешные суждения исказили на долгие годы и посмертную историю русского гения, принизив и опошлив драму его жизни. Пил, скандалил, заскучал, повесился. Такова схема, которой по свежим следам объяснила эту драму Зинаида Гиппиус. Трагическую суть есенинской жизни не захотел понять даже Максим Горький. «Драма Есенина, – напишет он, – это драма глиняного горшка, столкнувшегося с чугунным, драма человека деревни, который насмерть разбился о город». В другом месте он продолжит: «Друзья поили его вином, женщины пили кровь его. Он очень рано почувствовал, что город должен погубить его…».
Это, конечно, только самая незначительная и поверхностная часть трагедии.
Болезнь Есенина обрела все признаки смертельной, как мы говорили уже, после его возвращения из заграничной поездки. Даже самые близкие люди не узнавали его. Не внешности это касалось.
Вот сидит он опять в каком-то кабаке. Вокруг пьяные и беззаботные прихлебатели. Есенин старается и не может опьянеть. В этом чаду он повторяет теперь единственное:
– Россия… Ты понимаешь, Россия…
И задыхается от сознания, что объяснять тяжело и бесполезно.
В другой и сотый раз прорывается у него одно и то же.
«…Россия! – произнёс он протяжно и грустно. – Россия! Какое хорошее слово… И “роса”, и “сила”, и “синее” что-то. Эх! – ударил он вдруг кулаком по столу. – Неужели для меня это всё уже поздно?».
У Есенина не было великой любви к женщине. Прежде, до поездки по свету, им руководили три любви: к России, поэзии и славе. Теперь осталась только любовь к России. И не любовь это была уже, а болезнь – безысходная и неизлечимая. И все, что касалось России, теперь входило в его сознание и душу отравой и новой мукой. Он видел, что с Россией происходит не то. Первоначальные восторги исчезли, и он увидел, что Россию в нечистой игре выиграли шулера и проходимцы.
Пустая забава,
Одни разговоры.
Ну что же,
Ну что же вы взяли взамен?
Пришли те же жулики,
Те же воры
И законом революции
Всех взяли в плен.
Стала она, Россия, на веки вечные «страной негодяев». И как не вспомнить тут знаменательную перекличку двух великих русских поэтов. «Страна негодяев» – это Россия, какой её видит Есенин. И эту же Россию разглядел уже Пушкин, когда говорил – «первыми свободой в России воспользуются негодяи». И ничего уже не поправить. Оставалось только кричать, пока свинцовый кляп не прервёт этого крика. То, что кричал он, было чудовищным, не всегда осмысленным и подготовленным. Это был крик и гнев внезапно ударенного по лицу. Цена такому крику по тем временам – пуля. Почему его не тронули – опять подчеркну – самая большая загадка. Миллионы пошли в распыл за гораздо меньшую вину.
И пил, и скандалил, и плакал он только об одном. Он чуял уже гибель России. И вёл себя так, как должен бы вести себя последний в этом мире русский. Метаться и кричать, чтобы упасть потом кровавым комком на землю и затихнуть. Возможно, и был он этим последним, поскольку один ясно ощущал те великие, непоправимые утраты, о которых мы стали подозревать только теперь. Нам, у которых нет такого отточенного талантом звериного чутья на собственную погибель, может быть, и в самом деле надо пропустить столетия, чтобы осознать, наконец, что русских, после того, что с ними произошло тогда и позже, и в самом деле уже нет. Как нужны были столетия, чтобы итальянцам догадаться, что они уже не римляне, грекам – что они не эллины. Слеза Есенина, пополам с хмелем и кровью, – не она ли была предвестием и пророчеством нашего нынешнего окончательного разора и падения, преодолеть которые, пожалуй, нет надежды.
Продолжающаяся трагедия Отечества не дает нам права забывать о трагичнейшей судьбе величайшего из её печальников и певцов. Об этом хорошо когда-то сказал Вячеслав Иванов: «…Пока родине, которую он так любил, суждено страдать, ему обеспечено не пресловутое “бессмертие”, а временная, как русская мука, и такая же долгая, как она, – жизнь».
И о том, что сегодня нам нельзя без Есенина, он же сказал исчерпывающе: «Значение Есенина именно в том, что он оказался как раз на уровне сознания народа “страшных лет России”, совпал с ним до конца, стал синонимом её падения и её стремления возродиться. В этом “пушкинская” незаменимость Есенина, превращающая и его грешную жизнь, и несовершенные стихи в источник света и добра. И поэтому о Есенине, не преувеличивая, можно сказать, что он наследник Пушкина наших дней». Добавить к этому нечего…
Владимир Маяковский
Теневая сторона: Избранные пошлости
…Серебряный век неудержимо перетекал в свинцовый. Это стало ясно уже, поскольку на горизонте времён замаячил Маяковский. Тень, отбрасываемая им, была томительной как чёрный квадрат в переднем углу. Ходасевич высказался об этом так: «…Грубость и плоскость могут быть темами поэзии, но не её внутренними возбудителями. Поэт может изображать пошлость, но он не может становиться глашатаем пошлости. Несчастие Маяковского заключается в том, что он всегда был таким глашатаем: сперва – нечаянным, потом – сознательным».
Теперь о Маяковском уже мало помнят. Вот его величайшая и зловещая, как оказалось, пошлость, которой поделился Алексей Кручёных, он изображает момент выработки манифеста футуристов: «Я предложил: “Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина”. Маяковский добавил: “С Парохода современности”. Кто-то – “сбросить с Парохода”. Маяковский: “Сбросить – это как будто они там были, нет, надо бросить с парохода…”». Происходит это где-то в году 1912-ом. Участникам жестоких планов относительно русской литературы в среднем по двадцать лет. Детское озорство как будто…
Но это, оказалось, как ветер посеять…
Пароход Маяковского материализуется уже через десять лет. Это будут, например, «философские пароходы», которыми, по приказу Ленина вывозился за границу главный капитал Отечества – его учёные, философы, конструкторы, инженеры, изобретатели, деятели культуры – ну, и литераторы, конечно…
Всё это – несостоявшееся будущее России…
Пушкина на этих пароходах не было, конечно.
Величие прежней России осталось только на погостах её…
Маяковский же потом где-то сошёл с парохода памяти нашей сам, в какой-то тихой гавани…
Теперь уже без всякого надрыва и вполне естественно…