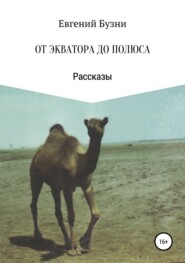По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Траектории СПИДа. Книга первая. Настенька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нет, конечно, Настенька не была идеалисткой и прекрасно знала обо всех дырах в золотом кафтане страны. Она понимала, что много, ну очень много нужно ещё сделать, много ломать и строить, воспитывать и перевоспитывать, чтобы стало когда-нибудь так, как мечтается. Тысячи праведных идей проходят через неправедных исполнителей. Тысячи кривых зеркал искажают суть задуманного. Но миллионы и миллионы тружеников-муравейчиков миллиметр за миллиметром, исправляя искривления, строят свой муравейник. А раз строят, то конечно же построят наконец. Если бы не верили и начали расползаться в разные стороны, то тогда точно не построили бы ничего, и залило бы их ливнями, разнесло бы ветрами, и перестали бы жить муравьи на земле.
Красная площадь для Настеньки была верой, без которой невозможно было жить.
Часовые печатали свои двести десять шагов. Возможно, не Роберт Рождественский их посчитал первым, но это от него, из его поэмы Настенька узнала об этих двухстах десяти шагах, строки о которых не могила забыть:
Грохот сердца.
Квадратных плечей разворот.
Каждый час
перед глазами друзей и врагов
начинаются
прямо от Спасских ворот
эти -
памятные -
двести десять шагов.
Грохот сердца.
И высохших губ немота.
Двести десять шагов
до знакомых дверей,
до того -
опалённого славой -
поста,
молчаливого входа
в его Мавзолей.
Под холодною дымкой,
плывущей реки,
и торжественной дрожью
примкнутых штыков
по планете,
вбивая в гранит
каблуки,-
двести десять
весомых
державных шагов!
– Интересно, – спрашивала себя Настенька, – какие мысли приходили в головы тем, кто печатал двести десять шагов, когда хоронили Брежнева, над которым, если не издевались при его жизни открыто, то сегодня издеваются совершенно свободно? Что думали печатающие шаг солдаты, когда на площади прощались с прахом Андропова, чей ум и воля, кажется, просто не успели до конца раскрыться? Что думают ребята, стоящие на главном посту сегодня?
Думают ли они о том, что не все те, кому отдаются такие почести, заслужили их? Хотя, – спохватилась Настенька и как бы одёрнула себя, – можно ли так легко судить о том, в чём не достаточно разбираешься? Что ты политик что ли? Знаешь всю подноготную их работы? Нет же. Не знаешь совсем. Плохо ли, хорошо ли, но Брежнев, например, находился восемнадцать лет у руля могучей державы. И это уже история, которую никуда не денешь. Все люди, чьи останки захоронены теперь у Кремлёвской стены или в ней самой, тесно связаны были между собой видимыми и невидимыми нитями судеб, из которых складывается основная вязь истории, каркас её здания.
Настенька представила себя одним из часовых и, гордо припечатывая подошвы сапог к дорожке, не глядя по сторонам, не обращая никакого внимания на восхищённые взгляды парней, стоящих у самого ограждения, она мысленно отвечала на вопросы собравшихся:
– Я иду охранять не только Ленина. Я хочу сохранить на века не осквернённой память к истории моего отечества, ко всем тем, кто принимал в ней участие не пустым созерцанием, а активными действиями с одним желанием: осуществить вековечную мечту человечества – сделать жизнь каждого на земле счастливой, сделать жизнь всех, кто трудится, а только такие и должны быть повсюду, радостной.
Но тут Настеньке вдруг подумалось:
– А что же делать с тем, кто пришёл в этот мир с желанием ухудшить его? Ну, скажем, появился бы такой человек, что захотел бы рабочих и крестьян снова подчинить господам капиталистам? И вдруг ему это удалось, так что же его тоже хоронить на Красной площади после смерти?
Настенька сначала растерялась от своего собственного вопроса, но затем твёрдо заявила себе, что не следует фантазировать так сильно – историю вспять повернуть невозможно.
– Настя-а-а! – Прокричала театральным басом в самое ухо подружки Наташа и, перейдя на обычный голос, зачастила словами, – Вот задумалась. Зовём, зовём – не дозовёшься. Кончилось всё. Помчались скорее на Пушкинскую. Здесь народу тьма будет, а там, если успеем, сядем на автобус и в дамки.
– А тебе что, приспичило? Куда лететь-то? Пешком трудно дойти что ли? Тренируй ноги – здоровее будешь, – убеждённо возразила Вика.
– Ну-у, хоть из толпы вырвались бы, – протянула обиженно Наташа.
Но это было уже невозможно. Сотни и сотни людей ринулись по всем направлениям с Красной площади, торопясь главным образом к станциям метро, центральным универмагам, столовым и кафе. Потраченное на мероприятие время надо было возмещать возможностью что-то купить, что-то посетить, где-то посидеть.
КАБУЛ 1985 ГОДА
Худощавый, подтянутый, уже в солидном возрасте, но по-прежнему чувствующий себя молодым, генерал армии Валентин Иванович Варенников поднялся из-за своего рабочего стола, лёгкой походкой подошёл к стене и раздражённо выключил дребезжащий кондиционер.
– Надо сказать, чтоб поправили, – подумал он.
Шум кондиционера мешал течению мыслей, а они были не весёлыми.
Ноябрь тысяча девятьсот восемьдесят пятого года оставался в Кабуле жарким во всех отношениях. Подходил к концу шестой год войны в Афганистане. Варенников не провёл здесь и года, но сегодня только понял, что застрянет в этих, как говорится, забытых богом местах надолго. Его, начальника Главного оперативного управления, первого заместителя начальника Генерального штаба Министерства обороны СССР, направили сюда разобраться с затянувшейся военной ситуацией и довести дело до разумного конца. Но каким должен быть этот разумный конец и как к нему подойти, если со стороны высшего руководства, от правительственных кругов исходят такие бездарные указания, что ему, видавшему виды генералу, улаживавшему сложнейшие конфликты в горячих точках чуть ли не всего земного шара, теперь приходилось всё чаще беспомощно разводить руками, с трудом сдерживая стремительное разматывавшие клубка военных событий, пытаясь хотя бы не наломать больше дров?
Он понимал, да понимал ещё тогда, шесть лет назад, что ввод в Афганистан войск был ошибкой. Но в Политбюро за этот ввод проголосовали все, кстати, и нынешний глава страны Горбачёв. А кто, интересно, был настоящим инициатором?
Рассуждая здраво, вмешательство Советского Союза в том семьдесят девятом году требовалось, но не в такой форме, не с таким шумом и помпой.
Подумать только! Советские войска или, как писалось, ограниченный контингент войск – пусть так, но всё же солдаты в строю – пересекали границу и первые километры по чужой территории шли, как на параде. О чём тогда думало руководство?