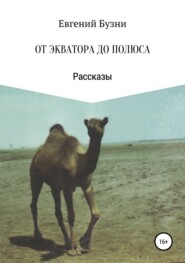По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Траектории СПИДа. Книга первая. Настенька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Странно,– думала Настенька, – почему это так, что прекрасные строки Есенина о Ленине почти никогда не слышишь с эстрады? Часто читают Маяковского, что, само собой, хорошо, но и Есенин написал по-своему чудесно, и она продолжала вспоминать строки из поэмы "Гуляй-поле":
И вот он умер. Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
"Ленин умер!"
Их смерть к тоске не привела.
Ещё суровей и угрюмей
Они творят его дела…
Нет, эти слова не были данью моде. Они не писались в стремлении получить Ленинскую или какую другую премию, а то и высокий пост в Союзе писателей. Это были стихи от сердца. Стихи человека, по-настоящему скорбившего о громадной потере для всего человечества и для него лично.
– О Ленине написано много, – думала Настенька, – и много искренне. О ком ещё так писали? Любимым пишут от всей души, поэты – своим друзьям, о народных героях складываются песни сами собой. По искренности написанного можно судить в значительной мере о предмете поклонения.
Например, о Сталине написано великое множество стихов и очень немало совершенно искренних. Верили и было во что. Даже сегодняшний знаменитый Евгений Евтушенко написал когда-то о Сталине хорошие стихи. Правда, сегодня он, кажется, извиняется за них или что-то в этом роде.
Зато о других руководителях Советской страны вообще никаких произведений вспомнить нельзя, кроме разве их собственных докладов. Обмельчали люди что ли? Ни при жизни о них не пишут, ни после. Да и что писать, если ничем они не жертвуют ради народа и думают-то скорее не о нём, а о том, как усидеть подольше в кресле и побогаче составить капиталец?
Настенька любила стихи. Глядя издали на мавзолей, с которого произносились слова, уже вовсе не доходившие до её сознания, она вспомнила ещё одного известного советского поэта Андрея Вознесенского, которого ей довелось целых два раза слушать, как говорится, живьём и который тоже вроде бы не коммунист, но очень интересно писал о Ленине в поэме "Лонжюмо".
Ей многое не нравилось в поэзии Вознесенского и прежде всего слишком частое отсутствие искренности в стихах, стремление писать ради сенсации, а не по велению души, любовь к архитектурным построениям стихов, что тоже делалось ради сенсационной формы, а не для лучшего выражения или понимания мысли.
Когда среди студентов возникали стихийные споры о Вознесенском, девчонки начинали возмущённо кричать:
– Да ты что, Настя, это же Вознесенский! А ты кто? Что ты его критикуешь?
А Настенька упрямо возражала:
– На меня авторитеты сами по себе не действуют. На меня может влиять искусство, его лучшие творения, а не имена. Да, я люблю стихи Вознесенского, его рифмы, фантастические сочетания образов, но всё принять не могу. Поэзия должна быть искренней всегда, а вы вспомните поэму Андрея "Лёд", которую он посвятил погибшей во льдах девушке. И что вы там видите? Вместо настоящей любви, вместо сострадания по юной душе, погубленной из-за чьего-то равнодушия, о чём и нужно было писать, вместо слёз, которые обязательно почувствовались бы у Есенина и передались бы читателю, мы наблюдаем, как поэт упражняется в составлении фигуральных льдинок из слова "лёд", повторенного бесчисленное множество раз. Ведь известно, что сколько ни повторяй слово "сахар", во рту от этого слаще не станет. И потому, читая поэму "Лёд", холодно становится не от повторений слова "лёд", а от холодного отношения к трагедии самого поэта, который в поэме думает не о погибшей девушке, а о себе, о своём стихотворчестве, будет ли оно сенсационным. Такую поэзию я принять не могу.
И всё же многое у Вознесенского Настеньке нравилось, а потому поэму "Лонжюмо", вернее отрывок из неё о Ленине, она даже читала на студенческом вечере. И сейчас эти строки наплывали на неё, растворяя перед глазами всё окружающее, оставляя лишь кучку спорщиков, которым она чётко и уверенно бросает восклицательными знаками слов Вознесенского:
Врут, что Ленин был в эмиграции.
(Кто вне родины – эмигрант.)
Всю Россию,
речную, горячую,
он носил в себе, как талант!
И финал – удивительно верный и, наверняка, искренний – не на публику, а выстраданный всей жизнью вопрос, который хотела бы и Настенька задать Ленину, если бы он был жив:
Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
"Скажите, Ленин, мы – каких Вы ждали,
Ленин?!
Скажите, Ленин, где
победы и пробелы?
Скажите – в суете мы суть не проглядели?.."
"Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?"
И Ленин
отвечает.
На все вопросы отвечает Ленин.
Вот только что же он отвечает, поэт не написал. Видимо побоялся тогда в шестьдесят третьем году написать, что Ленине совсем таких нас ждал. А может написал, да не напечатали? Впрочем, почему нет таких? Может, много есть и таких, каких Ленин хотел бы видеть", – говорила себе мысленно Настенька, – я, например, не такая. Спросила бы я его, а он бы ответил: “Нет, милая девушка, вы ещё многого не понимаете и ничего ни для кого не делаете. Нет, вы не такая". И пришлось бы конечно согласиться. Дала, правда, раз по морде человеку за хамство, но и только.
Настенька вспомнила о Вадиме. Больше года он не появлялся в институте, и девушка думала, что уже никогда с ним не встретится после злополучного свидания в ресторане, а тут на тебе – объявился на зимней сессии.
Встретились случайно в коридоре, когда Настенька выходила из библиотеки. Увидев его, она от неожиданности выронила стопку книг, набранных для следующего семестра, а он естественно стал их поднимать. Не оттолкнёшь же.
– Извините, – говорит, – я помогу. Тут многие спотыкаются – темновато в коридоре.
Настенька и не спотыкалась вовсе, но спорить не стала, забрала книги, буркнула "спасибо" и ушла. Потом стала замечать, что время от времени он пытается к ней "подкатиться" и втянуть в разговор, но она всякий раз его обрывала, отвечая, что очень торопится. А перед самым восьмым марта в целях большей безопасности от притязаний Вадима Настенька попросила своих однокурсников Олега и Юру быть её телохранителями, что они выполняли с большой охотой, ибо сами давно мечтали об этом, и потому всюду следовали по институту за своей прекрасной дамой, готовые в любой момент силой оттеснить любого, кого она не хотела бы видеть рядом. Так что Вадиму не удавались попытки хотя бы просто поговорить с девушкой. Она была непреклонна.
С трибуны мавзолея кто-то продолжал говорить. Вика Наташа и Настенька стояли у самого угла ГУМа, откуда почти ничего не было видно из-за многочисленных голов, покрытых тёплыми шапками, которые далеко не все решались снимать на всё время митинга в такое холодное время. Начало марта в Москве редко радует тёплой весенней погодой. Не радовало и в этот день.
Но Настеньке не надо было видеть, что пряталось за головами. Она могла представить всё. Много раз она бывала здесь то с дедом и бабушкой, то с мамой и папой перед их отъездом в командировку за границу, то с приезжавшими время от времени гостями, показывая им столицу. Да и когда просто прибегала за чем-то в ГУМ, любила всякий раз хоть на минутку выйти на булыжниковую брусчатку Красной площади. И не уставала смотреть, если было время, на смену часовых у мавзолея. Красивые, стройные, с лицами, не реагирующими ни на какие внешние эффекты, как автоматы, но очень всё-таки живые при этом, часовые гордо печатали свои двести десять шагов, выверенных до секунды, чтобы встать на главный пост страны точно по ударам Курантов – главных часов государства.
Здесь, на площади, всё было главным, всё подчинялось строгому порядку, вселявшему уверенность в том, что пока этот порядок существует, гордое государство будет жить спокойно.