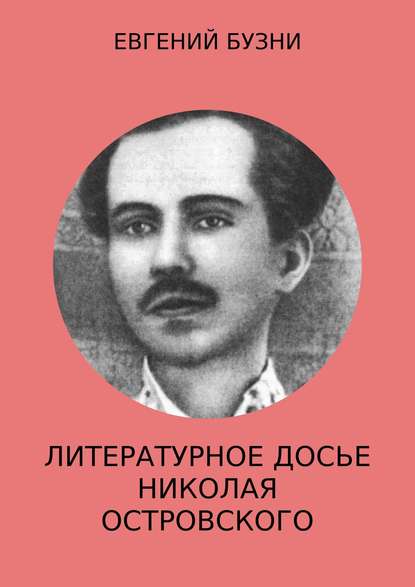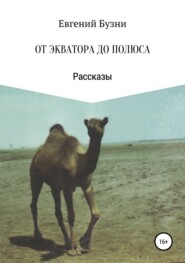По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературное досье Николая Островского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Редактор второго и последнего романа писателя Виктор Кинписал в послесловии, хранившемся в секретной папке, следующее:
"Роман "Рождённые бурей" был сдан мною в набор за несколько дней до смерти Н.А. Островского после того, как мы закончили в основном редактирование рукописи. Предстояло сделать ещё несколько поправокстилистического характера, главным образом, сокращений. Мы условились сделать их потом, когда будут получены первые оттиски набора.
Но Островскому не суждено было закончить свою работу над романом. Перед читателем – только первая книга из трёх задуманных Островским. Он рассказывал, что во второй и третьей книгах романа он хотел показать рост партизанского движения и работу комсомола в подполье, петлюровщину, польско-советскую войну 1920 года и освобождение Украины от белополяков.
Основным героем романа должен был стать Андрий Птаха. Вместе с остальной молодёжью партизанского отряда он переходит в ряды Красной Армии и сражается с белополяками. Отстав при отступлении от своей части, он в одиночку сражается в польском тылу, внезапно нападая на противника, пробиваясь к своим.
Об остальных действующих лицах мне известно меньше.
По замыслу автора роман должен был дать образцы героических, сильных людей, наделённых непреклонной волей, мужеством и душевным благородством.
Смерть оборвала замечательную героическую жизнь и работу Н.А. Островского.
Виктор Кин"
Послесловие впервые появилось в Ленинградском издании романа "Рождённые бурей", подписанного к печати 15 февраля 1937 г., то есть всего через два месяца после смерти Н.А. Островского. Каждому, прочитавшему строки, написанные В. Кином, понятно, что ничего крамольного в них нет, и изъяты они были лишь потому, что их автор был впоследствии репрессирован, как и авторы других публикаций А. Косарев, Гр. Киш, М. Кольцов и другие.
Сегодня мало кто будет оправдывать подобные действия политиков того времени, однако вот что интересно. Именно сегодня, когда на каждом углу России только и говорят, что об открытости, гласности, демократичности выбора, о равноправном сосуществовании различных идей, эти же самые люди, провозглашатели кажущихся всем справедливыми лозунгов, в то же время выбрасывают их школьных программ произведения писателя Николая Островского и даже его имя, вычёркивают их учебников истории революционные страницы России, будто её и не было вообще, или же превращая событие мирового значения, так или иначе повлиявшее на судьбы народов всего мира, в почти рядовой террористический акт, осуществлённой кучкой безумцев. Но разве демократия заключается в том, чтобы, восстанавливая одни имена, тут же забывать другие лишь потому, что они не по нраву сегодняшним держателям власти?
На память приходит интересный пример действительно принципиального подхода к критике первого руководителя коммунистической партии России В.И. Ленина, когда он в своей рецензии книги писателя А. Аверченко писал:
"Это – книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко "Дюжина ножей в спину революции". Париж, 1921. Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только непохоже, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете… Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять". П.с.с., т. 44, с. 249-250 Напечатано 22 ноября 1921 г.
Да, к сожалению, не все коммунисты смогли подняться до такой степени демократии, потому и ушли от читателя воспоминания В. Кина, проливавшие свет на художественный замысел всего романа "Рождённые бурей".
Между тем, любопытно отношение к В. Кину самого Н. Островского. В письме директору Государственного издательства художественной литературы (ГИХЛ) по поводу предстоящего издания своей новой книги он писал:
"Дорогой товарищ Накоряков!Ваше письмо и копию отзыва Виктора Кина получил… редактор "Рождённых бурей" должен быть глубоко культурный человек – партиец. Скажу больше, и это должен быть самый лучший Ваш редактор. Я ведь имею на это право.
Если Виктор Кин – это автор романа "По ту сторону" (книга, которую я люблю, хотя с концом её не согласен), то это будет наиболее близкий мне редактор… За критическое правдивое письмо спасибо. Я могу не согласиться с некоторыми Вашими положениями, но в основном это умное дружеское письмо мне нравится своей искренностью, отсутствием банальных комплиментов и ненужной патоки.
Побольше свежего ветра, и дышать нам будет легче. А то за реверансами трудно разглядеть свои недостатки, а их, безусловно, немало. А целый ряд обстоятельств обязывает меня в первую очередь, чтобы их было как можно меньше.
Вот почему Ваше и товарища Кина письма я принял хорошо".
Принял хорошо, не смотря на критические замечания, отсутствие комплиментов и несогласие с чем-то. Именно это подкупающе интересно у Островского – его постоянное стремление к честному принципиальному разговору. Во многих письмах и беседах ставшего уже широко известным писателя чувствуется эта неутолимая жажда правды, словно истомился он без неё за долгие годы, а теперь вот никак не может напиться из неиссякаемого источника. Всё время просит своих рецензентов говорить только правду. 28 августа 1936 года Островский пишет Михаилу Шолохову, своему почти одногодку (Шолохов 1905 г. рождения):
"Я хочу прислать тебе рукопись первого тома "Рождённых бурей", но только с одним условием, чтобы ты прочёл и сказал то, что думаешь о сём сочинении. Только по честности, если не нравится, так и крой: "Кисель, дескать, не сладкий и не горький". Одним словом, как говорили в 20-м году – "мура".
Знаешь, Миша, ищу честного товарища, который бы покрыл прямо в лицо. Наша братия, писатели, разучились говорить по душам, а друзья боятся обидеть. И это нехорошо. Хвалить – это только портить человека. Даже крепкую натуру можно сбить с пути истинного, захваливая до бесчувствия. Настоящие друзья должны говорить только правду, как бы ни была остра, и писать надо больше о недостатках, чем о хорошем, – за хорошее народ ругать не будет.
Вот, Миша, ты и возьми рукопись в переплёт.
Помни, Миша, что я штатный кочегар и насчёт заправки котлов был неплохой мастер. Ну а литератор из меня "хужее". Сие ремесло требует большого таланта. А "чего с горы не дано, того в аптеке не купишь", – говорит старая чешская пословица".
Правда. Как нужна она нам сегодня, и как трудно она даётся. Вот и вчитываемся в книги писателей того времени, которое больше всего непонятно сегодня. Заслоненное толщей времени и громадами лжи оно – это время расплылось, как кадры, снятые несфокусированным объективом, и только литература очевидцев, писавших честно и беспристрастно, поможет прояснить лица, сделать выпуклыми и чёткими контуры ушедшей от нас жизни.
Пусть, как признавался сам Островский, литератор из него "хужее", но он писал честно то, что видел, знал, понимал.
Тысячи людей, бывших и настоящих почитателей Николая Островского, сегодня мысленно, а порой и вслух задаются вопросом: на чьей стороне был бы сегодня любимый ими автор романа "Как закалялась сталь" – этого непревзойдённого гимна в прозе революционному взлёту человеческого счастья борьбы и самопожертвования ради простых людей, ради своего народа. С кем был бы он, доживи до наших дней?
Некоторые, отвечая на этот вопрос, готовы сразу отвернуться от писателя, пользуясь для объяснения сомнительной формулировкой: раз он был тогда "за", то, значит, сегодня не подходит. Но разве не миллионы и миллионы рабочих и крестьян в то время были за новую жизнь, за светлое будущее, за коммунизм, в том смысле, чтобы всем жилось хорошо, как, впрочем, и сейчас все за это же в принципе. Другое дело, что понятие всего прекрасного, но не осуществившегося, как хотелось, в той или иной мере, изменилось, а главное изменилось представление о подходах к счастью. Сама идея коммунизма некоторыми отнесена в разряд утопий, хотя никакой замены человеческой мечте не найдено. Но это сегодня все в поисках, когда познали горькую горечь ошибок и тяжесть резких перемен. А тогда?
Николай Островский был максималистом. Его Павка Корчагин, да и Андрий Птаха, не признавали середины. Павка работает на строительстве узкоколейки до потери сознания в буквальном смысле слова. Его вывозят со строительства без чувств. Но он счастлив тем, что дорога построена.
Андрий Птаха повисает на канате гудка, созывающего своим рёвом народ, и, понимая, что сам уже находится на краю гибели, чувствует себя счастливым от тех нескольких минут свободы, когда он может выразить то, что хочет – свою душу, свою волю, свой протест, когда никто не в состоянии помешать ему быть эти несколько минут свободным, делать то, что приводит в восторг собирающихся рабочих оттого, что можно хоть в чём-то оказаться сильнее врагов, заставить их хоть на миг оказаться слабее простого человека.
Да, сам писатель не переносил врагов новой власти органически. В одном из своих писем под грифом секретно он диктовал:
"Директору Госиздата Белоруссии
копия завюнсектора тов. Давидович
Уважаемый товарищ! Мне сообщили, что перевод на еврейский язык романа "Как закалялась сталь" поручили гр. Дунцу, политически скомпрометированному человеку, а перевод на белорусский язык бывшему троцкисту (фамилии не помню). Не знаю, почему надо было вторично на белорусский язык переводить, но, если это нужно, то прошу доверять эту работу людям политически безупречным".
И уже в следующем письме, адресованном первому секретарю ЦК ЛКСМ Белоруссии А. Августайтису, писатель сообщает:
"Товарищ Сарра Давидович сигнализировала мне о том, что переводы "Как закалялась сталь" на еврейский и белорусский языки были отданы троцкистам. На её протесты руководство Госиздата реагировало очень слабо. После её письма ко мне с просьбой помочь ей в этой борьбе заместитель директора Белгосиздата сообщил, что переводы переданы честным писателям. Я благодарен товарищу Давидович за её бдительность. Ведь я ничего не знаю о людях, которым доверяют переводы".
И не был ли прав Островский? Ведь он отказывал переводчикам не потому, например, что те не дали ему взятки, не потому, что те не спели ему дифирамбы, а по принципиально важным для него соображениям. Писатель искренне желал, чтобы его книги готовились чистыми честными руками. И не его вина, если здесь тоже была ошибка, и те переводчики не были вдруг врагами. Сам-то он видеть не мог и принимал кушанье таким, каким его подавали. И если ему говорили, что тот или иной человек, чья фамилия попала в роман, оказался врагом советской власти, Островский без колебаний соглашался на вычёркивание этих имён со страниц книги.
19 октября 1936 года Островским направляется письмо авиапочтой редактору Гослитиздата Вильховыму следующего содержания:
"Добрый день, товарищ Вильховый!
Письмо Ваше получил. Продолжайте печатать Школенко вместо Шумского. Относительно Руссульбаса, то мы эту фамилию снимем. Вместо неё на стр. 283 (III-е Укр. Издание "Молодого большевика") в сцене сбора коммунистов в пехотной школе в словах: "В залу входили Жухрай, Руссульбас и Яким" заменить слово "Руссульбас" словом "предисполкома". И речь будет произносить предисполкома. В начале второй главы (II книги) фамилию Руссульбаса снять. И где это подходит, заменить словом "предисполкома". (Между прочим, я впервые узнаю от Вас о Руссульбасе. До сих пор я знал, что его жена оказалась предательницей, троцкистской. Но как видно не только она).
Все эти исправления я введу в последующие русские издания. Крепко жму руку.
С коммунистическим приветом"
Аналогичного содержания почти за два года до этого 15 июня 1934 г. пишется письмо другу Петру Новикову, в котором говорится:
"Дорогой мой Петрусь!
Только что получил твоё письмо (открытку) от 12/VI.
Я уже получил письмо редактора тов. Трофимова. Я послал ему телеграмму – фамилии вымышленные, можно изменить. Обе фамилии, как Шумский, так и Ольшинский, – вымышленные. Конечно, тов. Трофимов думает о Шумском, бывшем народ<ном> ком<иссаре> прос<вещения> – националисте, но это случайное совпадение фамилий. Их можно изменить, если это нужно. Пусть Трофимов сам изменит какую-нибудь букву в фамилии, и всё будет в порядке".
Понятно, что максимализм этот не был отличительной особенностью лишь Островского. Он был порождением революции и потому владел массами. И друзья будущего писателя, когда романы его ещё витали неосознанно в мыслях, были такими же непримиримыми.
Достаточно вспомнить Льва Берсенева, с которым Островский познакомился в 1929 г. в Сочи и который был выведен в романе "Как закалялась сталь" под собственной фамилией. Почти стенографически точно и по анкетному кратко описывается его жизнь в книге:
"Ещё недавно Лев был большой работник. В революционном движении с двенадцатого года, в партии с Октября. В гражданскую войну ковырял в армейском масштабе, ревтрибуналил во Второй Конной; со Жлобой по Кавказу утюжил белую вошь. Побывал и в Царицыне, и на Южном, на Дальнем Востоке заворачивал Верховным военным судом республики. Хлебнул горячего до слёз".
А вот как более детально писал о себе сам Лев Берсенев в письме своему брату, отражая настроения революционного рабочего класса на Дальнем Востоке за год до установления там советской власти:
"Магазины, лавки, кафе, базар ломятся от товаров и всяких вкусных вещей, но только не для нашего брата, а для толстопузия. С непривычки чудно что-то. Не то, что у нас в Совдепии…