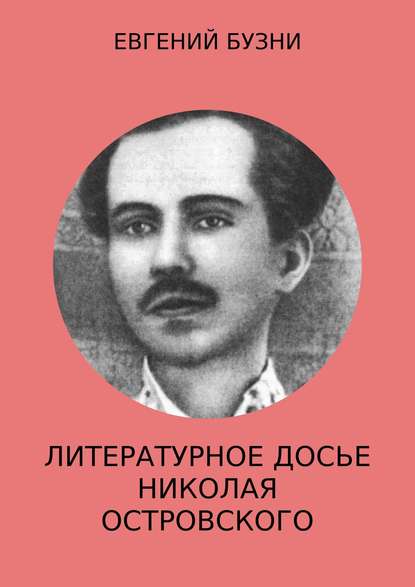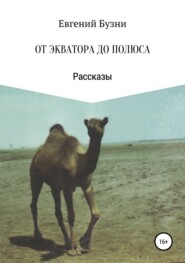По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературное досье Николая Островского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прослеживается такая картина: Островский знакомится с Мартой Пуринь в 1926 году, они становятся друзьями. В этом же году Островский едет в Москву к врачам и останавливается у Марты на квартире в Гусятниковом переулке. Этот факт жизни Островского отражён в конце седьмой главы второй части романа, но в опубликованный вариант книги из рукописи не попал рассказ о том, что Марта не захотела связывать свою жизнь с Павкой Корчагиным, боясь того, что его прогрессирующая болезнь помешает её революционной деятельности.
«Незаметно пробежали двенадцать дней, прожитых им на квартире Марты и её подруги Нади Петерсон. Целые дни он оставался один. Марта и Надя уходили с утра и приходили вечером. Павел запоем читал. У Марты было много книг. А вечером приходили подруги и кое-кто из друзей.
(Следующие затем строки в публикации романа не попали).
Между Мартой и Павлом происходила борьба противоречивых чувств. Они без слов знали, что они близки друг к другу, но, вступив в тяжёлую полосу жизни, выбитый из строя, он знал, что никогда не поставит перед ней вопроса о единстве в силу физического неравенства. Задерживать её жизненное продвижение сумерками своих дней он считал невозможным. Она же, зная его будущность, не решалась брать на себя ответственность.
– Скажи, пожалуйста, зачем ты парня мордуешь? Ты бы его приласкала что ли? Что у тебя за сердце? До чего же ты баба упрямая. Я такого парня впервые вижу. Такой тебя просить не станет, как Карлуша, плакаться на свою неудачную жизнь и просить погладить по головке. Для чего ты его в Москву звала тогда? Пусть останется у нас и бросай канитель разводить. А то я тебе в сердцах могу вихры нарвать. – И Надя, когда-то командовавшая партизанским отрядом в Латвии, перенесшая в белой тюрьме жуткие побои, доведшие её до полубезумия, готова была привести свою угрозу в действие.
– Надя! Не вмешивайся в мою жизнь. Этот парень мне очень дорог, я скажу больше – я его люблю. Это замечательнейший экземпляр человека-большевика. Но его ожидает трагедия. Я не могу связать свою жизнь с его будущностью. Моя жизнь отдана партии. Борьба превыше всего моего личного. А если я отдамся этому парню, если он останется здесь, то я от него не уйду ни при каких обстоятельствах, и вместо одной трагедии будут две. Тогда погибла работа, погибло созидание. Всё это наполовину потонет в большом горе. Не говори мне об этом больше. – И Марта разрыдалась так мучительно, что Надя бросилась её утешать, забыв все прежние слова».
Островский, как и Павка Корчагин в романе, возвращается от Марты Пуринь в Новоросийск, где вскоре болезнь окончательно укладывает его в постель. С Мартой он встречается снова на рождественские праздники в декабре 1926 года, переписывается с нею некоторое время (письма к Марте не найдены), следующая их встреча состоялась лишь в декабре 1928 года, о чём Островский и сообщает Жигиревой. Тут мы узнаём, что Марта замужем, но муж оказался троцкистом и этот факт вносит разлад в семейные отношения, так как сама Марта прочно стоит на другой политической платформе.
Вот эти-то отношения и отражены в романе при описании семьи Анны Борхарт и Дубавы. То есть мы видим, как писатель не выдумал ситуацию, а пересказал её со слов Марты Пуринь, но, либо не желая простого натурализма, или же с целью предупреждения возможных дальнейших неприятностей в семье Марты из-за появления её фамилии в книге, он прячет свою подругу в образе героини Марты Лауринь, в то же время перенеся её семейную трагедию на Анну Борхарт.
Вполне возможно, что факт политических разногласий между Пуринь и её мужем послужил причиной прекращения дальнейших отношений между Мартой и Островским, о чём он и сообщает через пять лет Новикову, желая напомнить своей старой подруге о себе и своих успехах, но боясь своим вторжением помешать её семейной жизни. Об этом свидетельствует другое письмо Жигиревой, написанное 14 января 1929 года, где, рассказывая о навалившихся в последнее время неприятностях, Островский пишет ещё об одной:
«Московская подруга, один из немногих моих любимых друзей, нас связывает хорошая крепкая дружба, ты знаешь, я писал. У ней есть товарищ (муж), я его не знаю, он меня да. У них были столкновения по политическим вопросам. Она, устав от бесконечных стычек и его полного отхода от партии, написала мне всё, как другу партийцу, где с горечью говорила, что дороги так разошлись, что надо рвать связь и дружбу. Что ж, парень завладел письмом, взломал её стол и написал мне какую-то идиотскую приписку, не только не похожую на партийца, а дрянную ругань не большевика, а обывателя. Мои два письма к ней, где я делился с ней о теневых моментах здешних, перехватил и использовал в троцкистской каше.
Вся эта чушь мне неприятна только с одной стороны – это то, что у ней такое барахло парень, член ВКП(б) с 1916 г., славная большевичка и такой обормот.
Вот, Шурочка, маленький кусочек теневой из нашего быта».
Возможно, что этот эпизод и послужил причиной прекращения переписки Островского с Пуринь, но об этом мы можем пока только догадываться. Зато с достоверностью можно сказать о весьма мастерском перенесении в книгу Островским фактов, взятых из жизни, но обдуманных и творчески переработанных.
Тема лжекоммунистов раскрывалась Островским в романе довольно широко, но была сокращена редакторами. В самом начале книги читатель встречается с гимназистом Шуркой Сухарько, с которым Павел Корчагин подрался у озера. Сухарько же выдаёт Павку, когда он освобождает от ареста Жухрая. Затем в опубликованном варианте книги персонаж Сухарько исчезает, тогда как в рукописи о нём ещё много рассказывается. Автор вводит Сухарько в компанию Шарапоня, где они проводят время за игрой в карты и развратом, а в шестой главе второй части книги опять происходит короткая встреча Корчагина с Сухарько.
«Часто стал читать Корчагин на губкомовских бумажках подпись зав учётом Сухарько. Будучи в губкоме, не забыл заглянуть в учёт. Сомнений быть не могло. Здесь хозяйски устроился его земляк.
Шурка его не узнал.
Зашёл к секретарю, рассказал об учётчике, попросил принести личное дело. Прочли – член комсомола с 1920 года, профессия слесарь, и ещё кое-какие мелочи. Печати и бланк, всё в порядке.
– Покажи свой билет, – угрюмо сказал Корчагин.
Сухарько вынул книжечку и подал ему. Павел заметил в билете подчистку: вместо 1926 год, у шести был вытерт верхний загиб и шесть, размашисто написанное, стало нулём.
– Когда же это ты был слесарем?
– А вот в девятнадцатом-двадцатом году в депо станции Шепетовка, у меня справка даже есть, могу представить, – сказал обеспокоенный Сухарько.
А меня ты случайно не знаешь? Ты не помнишь, кто тебе морду бил, ты что же думал далеко проехать с этой подчисткой?
Сухарько узнал Корчагина и понял, что дело гиблое. На другой день в учёте его уже не было».
Из непубликовавшихся писем Островского мы узнаём, что он сам пострадал от подобного афериста, когда некий Сизов в период лечения Островского в Харьковском медико-механическом институте в 1925 году по доверенности Островского, не имевшего в то время возможности ходить самостоятельно, и за его деньги получил путёвку на курорт, предназначавшуюся Островскому, и уехал по ней сам.
Нуждавшийся в курортном лечении Островский вынужден был обратиться за помощью к друзьям по партии, а о Сизове так писал в письме М.Е.Карасю:
«Несколько слов о Сизове. Коротко – он оказался не чл. Партии, а аферистом. С ним связался Поляков, чл. Партии, и написал вместе со мной в ЦКК, а оттуда в прокуратуру. У него не оказалось ни партбилета и ничего. Какой-то переплётчик контрольной комиссии. А в ЦК партии он ездил, сукин сын, по моим документам. Вот, а уехал он отсюда – просто удрал, никому не заплативши долгов и проч.
Да, мы все здорово ошиблись в нём, Муся».
Сколько было таких ошибок в истории партии, в истории страны? Островский писал и о них, переплетая страницы своей жизни, страницы жизни своего народа со страницами искренней, почти документальной, но всё же художественной книги, имея право на вымысел, но отражая факты.
В этом отношении любопытен ещё один эпизод из реальной жизни Островского, который обрёл в рукописи романа художественную форму, но не попал в опубликованный вариант.
Летом 1925 года Островский лечился в евпаторийском санатории "Коммунар", где с ним подружились Мария Родкина и Валя Лауринь. Вспоминая об этих днях в не публиковавшемся ранее письме Родкиной от 6 июля 1930 года, Островский писал:
«…Манечка, я теперь могу тебе написать о том, что трудно и невозможно диктовать кому-то свои мысли, вот почему я почти никому не пишу. Ты, конечно, опять в тех местах, где мы были пять лет назад. Я вспоминаю о той дружбе и размолвках небольших, которые у нас были. Если бы не желание на бумагу переносить, то я бы теперь мог рассказать тебе об одной обиде, которую ты мне причинила, сама того не сознавая. Тогда она была для меня очень обидная, но теперь, вспоминая, я улыбаюсь потому, что я сам больше всего был виноват, так как не сказал тебе. А если бы сказал, то, может, и обиды не было бы. Но я тогда ещё был глупым. Если бы нам удалась та встреча, о многом мы поговорили бы с тобой. Очень печально, что ты захворала. Даже не представляю тебя такую, порывистую и полную движения, захворавшей.
Ты вспоминаешь, Маня, проведенные вместе евпаторийские дни… (слова неразборчивы)… знала ли ты, Маня, про те желания Вали отдаться мне? Я не исполнил только потому, что думал – ты выскажешься против этой связи.
Много воды утекло со времени нашей встречи. Много пережито мной и тобой. Никакая бумага не может передать всё, для этого нужно встретиться. Будет очень хорошо, Маня, если ты своё здоровье восстановишь…»
И всё-таки через весьма короткое время Островский пытается передать пережитое на бумагу в рукописи романа. В седьмой главе второй части, разумеется, не совсем так, как было в жизни, но узнаваемо рассказывается и об упоминаемых в письме событиях.
«Ранним утром просыпался Корчагин, кругом ни души, все спят крепким сном, и шёл встречать восход солнца. Стоял на берегу и смотрел, как рождается день. В ореоле пламени, разбрасывая каскады горящего света, ослепительное, жаркое, подымало из моря солнце свой раскалённый золотой шар, и море улыбалось ему. Серебристой дорогой отмечало солнце свой путь на белых гребешках волн, и вспыхивали брызгами золота стеклянные террасы Дюльбера и Виллы Роз.
На зернистом песке утренняя роса. Корчагин раздевается и входит в прохладную воду. За его лечение принялись всерьёз, и день стал заполняться рядом процедур: ванны электрические всех родов и действий. Тут монтёр впервые узнал, что ток не только даёт свет и движет моторы, но и лечит весьма успешно головы, почему-либо плохо работающие, вроде его собственной, причиняющей ему много неприятностей. Ванны морские, рапные, песок, солнце, море, – всё это было приведено в действие, и вскоре он ощутил на себе их благотворное влияние. Растраченные силы возвращались к нему вновь, а кругом жизнь била ключом, было так много солнца, моря и людей загорелых, радостных, что Павел быстро поборол нервозную подавленность. Стали реже мучительные контузионные боли в голове, появился аппетит, раньше отсутствующий. Иерусалимчик[1 - Ординатор санатория.] была довольна.
– Наши дела идут в гору, товарищ Корчагин.
Они стояли на центральной дорожке санатория. К ним шла женщина, виденная тогда в саду. Иерусалимчик без обиняков познакомила их. Павлу это знакомство не совсем улыбалось, он ещё не забыл разговора в саду[2 - Речь идёт о первой встрече Павла с Родкиной в саду санатория, когда он, не желая знакомиться и продолжать разговор, на её вопрос, где он работает, ответил: "В ассенизационном обозе!"].
– Товарищ Родкина, поручаю вам его. Сделайте так, чтобы он поменьше оставался один и не думал о сложности теории относительности Эйнштейна. Я ещё не видела, чтобы он смеялся, значит, вы здесь необходимы.
Родкина смерила его с ног до головы лукавым взглядом и, сверкнув зубами, рассмеялась.
– Ничего себе нагрузочка, как ты на это смотришь, Корчагин? Если у тебя такой же характер, как и профессия, то у нас ничего не выйдет.
С этого же дня Дора начала «тормошить» Павла, и ускользать от неё было не так-то легко. Впрочем, на третий день их знакомства Павел перестал это делать. Они подружились, да и нельзя было не подружиться с ней.
Год назад Павел научился играть в шахматы. Раньше он возмущался, как это люди могли просиживать два-три часа над доской в каком-то напряжённом ожидании, вперив глаза в какую-нибудь точку на шахматной доске, но, познав тайны шахматной игры, сам увлёкся со всей силой и стал игроком страстным и упрямым. Одно время даже книга отодвинулась на задний план, но потом он заставил себя вернуться к ней. Игра требовала времени, а его не было. Как только прошли головные боли, Павел попробовал сразиться. Играл он всегда на стремительное наступление и ошеломлял противников бурным натиском, но победу терял иногда одним рискованным ходом. Поражение принимал остро. Игра требовала мозгового напряжения, и, как только он пытался сыграть больше одной партии, Дора, не выпускавшая его из виду, брала под руку и под тем или иным предлогом уводила от партнёра.
К Доре приходила Азорская, та блондинка, что подходила к Доре в саду. Втроём катались на лодке, читали, слушали концерты у фонтана в поликлинике, а вечерами гуляли по приморскому бульвару. Быстро промчался месяц, здоровье Корчагина поправлялось с каждым днём. Тело его загорело до цвета старой бронзы, мускулы наливались крепостью. Сгладились и вскоре ушли совсем ненавистные боли, и голова не чувствовала свинцовой тяжести. Тело наливалось силой и здоровьем и стало тяжелее на девять кило. Иерусалимчик не могла скрыть своего восхищения.
Знойным полднем Корчагин встретил у моря давно забытую Муру Волынцеву. Не узнал голубоглазой девчонки в красивой высокой женщине, стоящей перед ним. Но она узнала его. Мура – студентка третьего курса технологического института. Была замужем, но неудачно. Её дом отдыха почти рядом с «Коммунаром». Мура рассказывала о себе, узнавала и о нём:
– Ты не женат? Нет? Приветствую. Я голосую за свободу личной жизни, – и она, не договаривая чего-то, улыбнулась.
На другой день встретились опять на пляже. Павел был с Дорой. Втроём уплыли в море на лодке. Мура без чёрточки смущения разделась – Павел засмотрелся в зелёную глубину воды, чтобы не видеть лукаво прищуренных глаз Доры – и купалась в море. Когда она отплыла далеко, Дора сказала:
– Жизнерадостная дивчина. Глядя на неё, приходится вспоминать про свои тридцать два года. Ты будь с ней немного приветливей. Откуда у тебя такая суровость? Ведь ты же, если разобраться, ещё мальчишка. Ну-ну, не лезь в бутылку, пожалуйста. Ты ведь знаешь, о чём я говорю? На суровость ещё будет время, а для того, чтобы жизнь была полнее, надо взять от неё и то, от чего ты уходишь. Дело, конечно, глубоко личное, но, по-моему, у тебя здесь перегиб в левую сторону.
К лодке подплывает Мура.
Встречи с Волынцевой всё учащались. Павел даже не задавал себе вопроса, как это получалось. Мура была нескучный собеседник. В ней было немало огня и оригинальная своеобразность. И всё же, когда в один из тёмных вечеров в саду у чинара она обняла его и обожгла жарким поцелуем, прильнув к нему всем телом, затем сказала чуть слышно: «Возьми», он осторожно отодвинул её и ласково, чтобы не обидеть, положив свою руку на открытые сарафаном плечи, ответил: