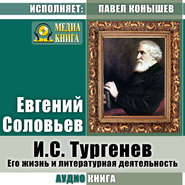По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Джон Мильтон. Его жизнь и литературная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Благословляю тебя, – восклицает он, – супружеская любовь, истинный источник жизни! Бесстыдный сластолюбец изгнан был Тобою из общества людей и принужден скитаться между животными! Ты одна освещаешь и укрепляешь союз крови и ты первая поселила нежность в сердцах родителей, детей и братии. О, неиссякаемый источник семейного счастья! Горе тому, кто изображает тебя красками порока или стыда и почитает тебя недостойным для человека. Ложе твое нескверно! И патриархи минувших веков, и благочестивые мужи наших времен утоляли любовную жажду свою чистыми твоими водами! Для тебя, супружеская жизнь, любовь имеет лишь одни золотые стрелы, возжигает неугасимый светильник радости и парит над тобой, мерно рассекая воздух пурпуровыми крылами. Ты таишься под сенью их. С тобой одной любовь царствует и наслаждается. От тебя удалены лживые улыбки наемной красавицы, скучные и холодные ласки; от тебя удалены отвратительное сладострастие пышных чертогов, шумные пляски – личина глупости, ночные пиршества и безумные песни, которыми легкомысленный юноша увеселяет гордую прелестницу, заслуживающую одно презрение…»
После этого величественного гимна Мильтон возвращается к Адаму и Еве: «Супруги предались сну при пении птиц; цветущий свод оросил их благоуханием роз, оживших от прохлады утренней зари. Почивай же спокойно, счастливая чета!..»
О других действующих лицах поэмы говорить не приходится. Вместо прародителя Адама, как давно уже совершенно верно замечено критикой, вышел благопристойный джентльмен XVII века, с пуританским складом мыслей, несколько резонер, которому недостает лишь костюма, чтобы отправиться в клуб или парламент. Неудачны фигуры Ангелов и самого Бога-Отца; лишь внешней притягательной силой и запасом благоразумных высоконравственных сентенций отличается Искупитель в «Возвращенном Рае». Недостатки эти настолько очевидны, что бросаются в глаза каждому: в Мильтоне моралист то и дело побеждает художника и лишь в некоторых особо счастливых местах оба согласно идут рука об руку. Но все же 200 с лишним лет не уменьшили славы Мильтона как поэта, а увеличили ее, и несомненно, что в XIX веке у «Потерянного Рая» гораздо более читателей, чем в XVII или XVIII. Лишь невообразимые трудности, стоящие перед переводчиками, не позволяют «Потерянному Раю» добиться самого широкого всемирного распространения, но даже и несовершенные, иногда прямо никуда негодные переводы читаются не без усердия, – как, например, у нас, в России. Причины такого громадного исторического успеха поэмы мы и постараемся выяснить.
Не буду долго останавливаться на том слишком очевидном обстоятельстве, что «Потерянный Рай» заключает в себе массу отдельных мест, полных поэтической силы и красоты. Откройте любую страницу, и при малейшем внимании вы найдете в ней или образ, такой рельефный, что он просится на полотно, или описание природы, расстилающееся перед вами как величавый пейзаж, или глубокую мысль, невольно заставляющую призадуматься. Позволю себе привести небольшую картину солнечного заката. Кстати, недурен и русский стихотворный перевод:
Садилось солнце. Золото и пурпур
Залили облака, стоявшие толпой
Вокруг его престола на закате…
Вот вечер наступил, и серый сумрак
На все набросил свой таинственный покров.
Вослед ему молчание спешило,
И зверь, и птица удалились на покой:
Одни – к своим муравчатым постелям,
Другие – в гнезда… Только соловей
Всю ночь не спал и песню пел любви,
А восхищенное безмолвие ему внимало.
И вскоре свод небесный засиял
Живыми яхонтами. Геспер,
Вождь звездной армии, яснее всех блистал,
Пока царица ночи, томная луна,
Во всем величии из облаков не вышла
И пред ее чистейшим светом
Свет всякий не померк, когда она
Все серебристой мантией одела…
Подобные перлы украшают чуть ли не каждую страницу «Потерянного Рая», и задумчивая, спокойная красота описаний природы у Мильтона так же освещает душу человеческую, как и сама природа.
Но все же это частности. Поставьте рядом с ними главный недостаток поэмы – отсутствие героя, на котором читатель мог бы сосредоточить свой интерес, и вы увидите, что, как ни хороши отдельные места, они мало могли бы помочь горю. «Мало могли бы», говорю, если бы не одно обстоятельство, очень важное.
Героя-лица в поэме действительно нет, ибо нельзя считать героями выведенные в поэме лица. Гордая и великолепная фигура Сатаны не выдержана, как не выдержана фигура и кроткой Евы. Но все же я думаю, что герой в поэме есть, а если мы его не видим, то лишь потому, что ищем не там, где следует. Правда, этот герой слишком отвлеченный, духовный, но вместе с тем несомненный и притягательный не меньше Ахиллеса, или Генриха IV, или Энея. Имя ему – религиозный героизм, религиозные и политические страсти XVII века, геройский дух пуританской Англии. Ни Кромвель, ни Пим, ни Гампден, ни пуритане ни разу не названы на протяжении всей поэмы, нигде нет даже прямых указаний на волнения XVII века, и все же вы чувствуете, что весь интерес «Потерянного Рая» в них-то и заключается, что, неназванные, они присутствуют на каждой странице, что везде – их чувства, их мысли, их настроение.
Разумеется, перед нами не та пуританская Англия, которую мы знаем из истории. Мы не видим ее мелочности, ханжества, практических стремлений; она является перед нами очищенная от земной грязи, от всех житейских столкновений, которые всегда заставляли все великое и славное размениваться на мелочи. Мильтон взял свое время лишь в высшем его проявлении – в проявлении героизма. Как поэт он имел на это полное право.
Только героизм и вдохновляет его. Не знаю, нужно ли анализировать это чувство, так как мне положительно трудно представить себе человека, который не был бы знаком хотя бы по отдельным минутам с вдохновением. Кто хотя бы один только раз в жизни не отказывался от служения своему я, не переставал чувствовать страха перед завтрашним днем – этого надоедливого, мучительного страха за свою собственную шкуру, – и переставал не по легкомыслию, а по сознанию, что есть в жизни что-то большое, важное, чему следовало бы отдать ее всю, чему хорошо было бы отдать ее? Но ведь сущность героизма и заключается в подчинении своей личности этому большому и важному, и такому подчинению, которое преодолевает страх даже перед смертью… Божество, Вечная Истина, долженствующая восторжествовать на земле, – вот что делало и Мильтона, и английских пуритан героями. Оттого-то «Потерянный Рай» и может быть назван «религиозной поэмой», так как его вдохновение вытекает из религиозного героизма. Поэзия становится гимном. «Да прославят Его, – восклицает Мильтон в религиозном экстазе, – Его первого и последнего, составляющего начало, средину и конец!.. О, прекраснейшая из звезд, последняя спутница ночи и подруга утренней зари, ты, которая венчаешь настоящей диадемой улыбающееся утро, прославляй Создателя нашего и в то время, как распускающая свои огненные лепестки заря сияет на горизонте! Ты, солнце, око и душа беспредельного мира, познай в Нем владыку, несравненно большего тебя, разливай славу Его в сиянии и восхваляй Его блеском своим, когда восстаешь из лона морей, когда восходишь в зенит на средину неба или в вечерних водах заканчиваешь лучезарный путь свой!»
В этой безмерной, несравненной Славе Божества, Его Величии исчезает человек, а если и сияет, то лишь отраженным блеском.
Вернемся, однако, к героизму. Он, создавший поэму, наложил на свое детище неизгладимый отпечаток. Вы чувствуете его уже в слоге, в стиле. Этот стиль – всегда несколько приподнятый, величаво-торжественный, как звон колоколов большого собора, как звуки великолепного органа, воспроизводящего псалмы, – в «Потерянном Рае» приобретает особенную силу, определенность, энергию. Не надо обманываться внешностью. Перед вами обыкновенно длинные закругленные фразы, текущие ровно, как волны большой реки. Но за гладкой зеркальной поверхностью скрывается неизведанная глубина, непреоборимая сила, которая вдребезги разнесет все препятствия, которые только встретятся ей на дороге. Так оно и выходит на самом деле. Даже отдаленный намек на папство выводит Мильтона из себя, и его речь становится бурной и негодующей, как водопад.
Но, бурная или спокойная, речь Мильтона всегда величава. В. двадцати тысячах строк поэмы нет ни одной шутки, нет даже улыбки, которая развеселила бы вас своей наивностью. Вы в храме, и ищете здесь лишь то, что может дать храм со своим куполом, уходящим высоко-высоко в небо, и своими тяжелыми мраморными колоннами, со страшной картиной ада налево, с залитым светом и золотом изображением райской жизни направо.
Слог, повторяю, величав, героичен. Такими периодами, полными скрытой силы, с такой вдохновенной серьезностью человек может говорить лишь тогда, когда перед ним дело более важное, чем сама жизнь. «Смерть ничтожна!» – вот впечатление, которое остается у вас после лучших мест поэмы, и вы долго-долго не можете отрешиться от него.
Воображение Мильтона, настроенное на высокий лад героическими стремлениями сердца, то и дело покидает землю, чтобы подняться на небеса или бросить полный ужаса взгляд в бездны преисподней. Обычные картины не удовлетворяют его. Он рвется из пределов возможного, существующего; земля тесна для него. Безмерные образы – его пища…
Вот картина мироздания:
Они стояли на берегу небесной сферы,
Взирая на ширь необозримой бездны,
Как море бурной, мрачной, пустынной,
Волнуемой сверху до дна яростным ветром.
…………………………………………………
Волны вздымались по ней, будто горы,
И силились воспрянуть до самого неба, стремились
Сбить и смешать оба полюса с центром.
И сказало тогда всезиждущее Слово:
– Смолкните вы, мятежные волны, и ты,
Бездна, смирись! Конец вашим раздорам пришел!..
……………………………………………………….
– Да будет свет! – рек Бог, и по его глаголу
Эфирный свет, начало чистейшее между стихий,
Стихия первая, из бездны брызнул внезапно,
Потом сомкнулся в лучезарное облако и начал
Воздушную мглу обнимать с родного востока.
…………………………………………………..
Земля образовалась, но, как недозрелый зародыш,
В оболочке свернувшийся, во чреве вод лежала.
Ее со всех сторон окружал океан, деятельный, широкий.
Теплою плодотворною влагой смягчая
Ее шар, он в броженье приводил великую матерь,
Дабы зачала она, напитанная живыми соками…
И сказал тогда Бог: – Теперь соберитесь вы, воды,
Под твердью в одно место, и да явится суша! —
В то же мгновение горы громадные из воды появились,
Приподняли до облаков широкие голые хребты свои,
Меж тем как их сумрачные вершины стремились к небу.
И как высоко поднялись округленные холмы,
Точно так же низко опустилось вместительное
и глубокое,
Но уже опорожненное лоно вод.
Торопливо и весело спешили воды скатиться в русло,
Как капли, разбросанные по сухой пыли,
Когда стремятся они принять шаровидную форму.
Чтобы быть более понятным русскому читателю, скажу, что родственным гением Мильтону по силе и грандиозности воображения является наш Державин.
* * *
Перейдем к характеристике Мильтона как личности и здесь отметим прежде всего основную черту его характера. Высшее бесстрашие заключается в том, чтобы жить мужественно, и в этом отношении мало кто может сравниться с Джоном Мильтоном. Только с душой, не знающей чувства страха, можно было спокойно перенести столько превратностей жизни, слепоту, семейные неурядицы, одинокую старость среди насмешек и презрения ликующих врагов. Мильтон много получил от природы: она дала ему прекрасную наружность, вызывавшую невольное доверие и уважение, дала ему проницательный ум, поэтический дар, равняющий его с высочайшими героями слова, и правдивое сердце, не знавшее никогда ни лжи, ни соблазнов, порождаемых ложью. Он не растерял ни одного из данных ему талантов и смело оставался до конца дней своих каким был, не обращая внимания, как относятся к сущности его натуры окружающие. Он не умел казаться, хотя бы его прямота несла за собой одни страдания и угнетения. К его гордой, мужественной душе, не умевшей склоняться перед обстоятельствами, можно подойти смело и без боязни. Есть гении, удивляющие нас величием своего творчества и ничтожеством своей обыденной жизни. Мильтон не знал такого противоречия: его дипломатическая переписка, его отношения к людям дышат той же правдивостью, что и наиболее вдохновенные страницы «Потерянного Рая». Жизнь меняла его, – но эти изменения никогда не являлись результатом расчета или посторонних соображений. Сначала перед нами – прекрасный образец просвещенного гуманиста, восторгающегося древностью, увлеченного тем, что есть вечного и великого в этой древности: благородством греческой драмы, героической искренностью и правдивостью Демосфена, суровым мужеством римлян и страшной ненавистью Тацита. Но жизнь внезапно меняет свое русло и требует от человека гражданской честности. Еще накануне она позволяла каждому вести тихую и скромную жизнь, мечтать о справедливости, довольствоваться личным благополучием; но настал кризис, заставивший всякого выложить напоказ все, что в нем есть, раскрыть свои сокровеннейшие думы и заявить перед всеми, что есть в нем. Мильтон, не задумываясь, бросился туда, где шла самая ожесточенная борьба, хотя и мудрейшие не могли бы предсказать, чем кончится эта борьба и не окажутся ли сегодняшние победители где-нибудь в подземелье завтра или послезавтра. Но никакая перспектива не могла испугать его, раз дело шло о том, что он считал за истину. Он расстался на долгие годы со своими излюбленными занятиями, потерял зрение, и – что же? – ни слова отчаяния, ни строчки раскаяния или сожаления не вырвалось из его груди. Чем дальше, тем больше проникался он той мыслью, что истинная красота немыслима без истины и справедливости. Он не пошел обычной дорогой поэта, не удовлетворился творчеством и образами, он не воспевал добродетели – он был добродетелен. Его поэтический дар, его нравственное «целомудрие», его религиозное воодушевление не знали противоречий и борьбы. Он не бросался на колена перед Господом лишь для того, чтобы излить страдания своей усталой, измученной жизнью и собственными грехами души, он не любил добродетели как лучезарного образа, посещающего человека лишь в редкие минуты просветления, – его слово и его жизнь, его чувства и поступки были всегда тем же самым. Он по самой природе своей был предназначен для того, чтобы объяснить человечеству, где же и в чем же заключается не всегда ясная, а иногда и совершенно не ясная связь между красотой и правдой, и каким образом можно служить тому и другому. Героизм – вот разгадка вопроса: геройский поступок всегда прекрасен и всегда правдив. Лучшее сравнение для души Мильтона – это море, то спокойно и величаво отдыхающее при закате солнца, то бурное и гневное, разбивающее скалы. Чем сильнее взволнуется оно, тем лучшие перлы выбросит на берег. Эти перлы целыми грудами мы находим еще и теперь в «Потерянном Рае». Читатель знает его, как знает он и «Комуса». Пусть сравнит он оба эти произведения. И там, и здесь мы – на высотах поэтического творчества, но если в «Комусе» нас привлекает уважение к добродетели как закону человеческой жизни, то в «Потерянном Рае» нас волнует страстное одушевление перед Правдой, которую Бог, как учил Мильтон, приказал людям воплотить в своей жизни. Ко всему великому поэт чувствовал неотразимое влечение. Он любит своей мыслью подниматься на небо, он величав даже в своей ненависти. Забота о себе, о своем достатке, о спокойной старости не тревожила его никогда; он был уже седым стариком с царственными кудрями, с походкой вождя, когда ненадолго (к счастью) закрылись перед ним двери темницы. И здесь он не упал духом, и здесь его натура оказалась из лучшего металла, самоуверенная и гордая, как может быть гордой и самоуверенной лишь воплощенная правота. Он никогда не искал славы, не заботился о ней, не знал мелкого тщеславия и гордости, не знал распрей самолюбия. Другая слава привлекала его, и он красноречиво говорит о ней такими словами: «Я не устремлюсь за мечтой, обольстительной по наружности; сияние земной славы не в состоянии ослепить меня. Честолюбие плохо вознаграждает тех, кто предается его власти. И что такое громкая слава, как не народные рукоплескания, сопровождаемые шумом зависти? Что за народ, расположения которого так сильно домогаются? Истинно славным можно назвать лишь того, кто имеет похвалу от Бога, старается быть праведным лишь перед его очами, как делал это Иов». Если нами и не может быть понято во всей его полноте мощное религиозное одушевление людей XVI века, то все же никогда не должны мы забывать, что тогда-то оно стояло на первом плане, было истинным руководителем как Мильтона, так и тысяч его современников, начиная с созерцательного Беньяна, кончая такими практиками, как Кромвель. Эта религиозность заканчивает и объединяет портрет Мильтона, ибо все исходило из нее и все служило ей.
Слава Мильтона среди современников была далеко ниже той, которой он пользуется в XIX веке. Литературная известность приобреталась тогда с трудом и ограничивалась лишь незначительным кружком избранных. XVIII век, по крайней мере в лице Вольтера, осудил его, как осудил он и других представителей пуританской Англии. Наш век оценил великого поэта по достоинству. Правда, он подходит к нему с некоторым недоумением, как к человеку другой породы, поражающему грандиозностью своих размеров, напряженностью своего религиозного вдохновения, величавостью своих образов и воображением, стремящимся в небесные сферы. Но вместе с этим мы во многом чувствуем и близость свою к Мильтону, как к человеку нового времени. «Случай, – говорит Тэн, – поставил его на рубеже двух эпох, и он от обеих заимствует их основной характер, как река, которая, протекая между двумя различными пластами, окрашивает воды свои цветом того и другого. Поэт и протестант, он наследовал от оканчивающейся эпохи свободное поэтическое вдохновение, а от наступающей – суровую политическую религию. Он употребил первое на служение второму и пел о новых предметах с прежним вдохновением. В его произведении узнаешь две Англии: одну – страстную поклонницу прекрасного, отдающуюся движениям необузданной чувствительности и фантасмагориям чистого воображения, не признающую других правил кроме естественных побуждений, другой религии кроме натуральных верований, добровольно языческую и часто безнравственную – словом, ту, какую показали нам Бен Джонсон, Бомон, Флетчер, Шекспир, Спенсер и вся многочисленная фаланга поэтов, появлявшихся на здешней почве в продолжение пятидесяти лет; другую – основательницу практической религии, лишенную метафизической способности, погруженную всецело в политику, поклоняющуюся правилу, склонную к мнениям умеренным, здоровым, утилитарным, узким; хвалящую семейные добродетели, вооружившуюся строгими нравоучительными сентенциями и закоченевшую в этих сентенциях, погрузившуюся в прозу, достигшую высшей степени могущества, богатства и свободы. В этом отношении его слог и идеи представляются литературными памятниками; они сосредоточивают в себе и напоминают прошлое, опережают будущее, так что в пределах одного произведения можно раскрыть события и чувства многих веков и целого народа».
Мощное впечатление нравственной личности Мильтона прекрасно передано в стихах Вордсворта, которые я в заключение и привожу в переводе К. Бальмонта:
Мильтон! Зачем тебя меж нами нет?
Британии ты нужен в дни паденья!
Везде заветов прошлого забвенье,