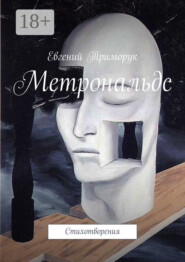По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Выбор смерти. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Михаил Морф многим был неприятен. Особенно неприятен тем, кто не ценит слушателей. В любой момент Михаил мог развернуться и, даже извиняясь, уйти, и не потому, что он был не вежлив, совсем наоборот. Правда, порой у него случались затяжные периоды молчания. Это уж или характер, или теория.
Заходишь порой к нему в гости, а он лежит и никак не реагирует на твои слова. Просто лежит. Лежит и ничего не говорит. Глаза в потолок как у раненого.
Я видел таких. Но Михаил отличался, наверное, как многие из нас, если забыть, что у некоторых удаленные, отвлеченные, аморфные ценности. Он, Михаил, что называется, был приземленным. Здешним. С четко рассчитанной организацией жизни, действий, потребностей и возможностей.
Вот же сволочь. Мое недоумение и дежурное выражение, говорящее о том, что я хочу помочь, он проигнорировал более тупым молчанием.
Он словно уничтожал все резервы, которые у него были, потому что вошел сосед, знающий Марию, и передал смартфон «Пугачев», новый дизайн. Бедный Михаил вырвал его. И тут же сказал фразу, подобную «фас». Моя рука легка, когда я разливаю, иначе действую опрометчиво.
Какой писатель не удовлетворит потребность в избиении другого писателя в прямом смысле?
Сосед был возмущен тем, что разбили его аппарат. Тем, что так наплевательски отнеслись к его благородным поступкам, тем, что он ничего не успел осознать, тем, что люди такие жестокие вообще, и не понимают чуткой натуры поэта, который стремится к вечности.
Как в фильме «Сашка Андреев», я двигался быстрее и умнее, но с человеком, отслужившим в космических войсках, сложно бороться. Он меня избил, как щенка, и вышел из комнаты. Нам с Морфом оставаться здесь было нельзя.
Да, я приврал по поводу моих способностей к рукопашной.
Из комнаты Михаил в своих приступах молчания не выгонял, чем я и пользовался. Не принимал никаких споров в разговоре.
Позже я нашел лазейку, вполне приемлемую для себя. В таких случаях, как с Михаилом, я просто говорил и говорил, говорил и говорил, а потом уходил.
Сейчас же украли его жену, и он не выходил на контакт ни с кем, кроме меня, разумеется, потому что мы перебрались в мою комнату, где до него не доберется ни маньяк, ни соседи с боевыми навыками.
Мы обсуждали вопросы моего тщеславия, тщеславия местного варианта и тщеславие как основу психотипа творческих людей. Попутно размышляли о Вадиме Дубровском с его личностной философией для себя, когда человек устанавливает правила и религию в пределах своих желаний. Михаил воспринял неписанную, точнее, недописанную теорию Дубровского о выявлении собственной философии и религии слишком буквально. И написал свой трактат, который называл «Морфологией молчания».
Мне было известно только название. Читать его я не собирался.
По отрывкам я могу предположить, что в его трактат вошла концепция нашей игры. Правда, из меня плохой отгадчик. Как можно угадать мысли и действия человека по-настоящему? В пределах шутки еще возможно. Опять же, человек не тумбочка, чтобы ее переставить и расположить по своему усмотрению. Он, человек, вдруг возьмет и чихнет в самый неожиданный момент, и вдруг передумает, например, идти в магазин, зато вдруг развернется и пойдет в поликлинику.
Следующая связь с «маньяком» пошла из университета, которую передавала моя сердобольная знакомая, но я отмахнулся. Михаил посмотрел на меня так, словно сегодня или завтра мне придется сделать что-то помимо потасовки с соседом, которого я и так ненавидел.
Маньяк, значит, за нами следил. Он знал номер Михаила, его учителей и родителей, мой номер и моего соседа. Может быть, с убежищем в моей комнате я тоже прогадал?
Мария Морф была откровенной болтушкой, что придавало ей больше прелести и очарования. Она словно восполняла собой тот необходимый баланс речи, который приходился на ее мужа. И откровенно раздражала. Меня – очень. Но я молчал. Михаил же берег отношения с ней, как муж, и со мной, как с другом.
Мне же не хотелось вмешиваться в их отношения в период встреч и свиданий, потому что это его выбор, а не мой.
Михаил был первым критиком, чье мнение я учитывал больше второй жены. Тогда у него в гостях мы распространялись немного о современной литературе. Да, повторяюсь. Да, в виде сплетни. Извините.
В Евгетии, что чиновники, что писатели, организовывались в отдельный класс. Тогда-то ему, Михаилу, и позвонили.
Михаил Морф даже не спросил, жива ли она, цела ли она, чего хочет этот маньяк, который уже третий месяц шантажировал Метрональдс. Даже если это была шутка, Михаил решил не участвовать.
Я глупо заметил, что, если бы это и была шутка, но недооцененная, то она является бесполезной. Михаил промолчал.
Слишком сложно выразился, да? Попробую иначе.
Кто больший дурак, если шутку не поняли: кто ее придумал, или тот, кому ее рассказали?
Длилось мучение с кражей Марии долгие трое суток. Это нам прибавило и жизни, и смерти. Михаил стал седеть и лысеть одновременно. Я не утрирую.
После принятия клятвы Ганнибала чиновники еще больше озверели. Теперь они жили одним днем. До выхода на пенсию еще далеко. Пока же Орден Зла доберется до них, страдали по-прежнему самые невинные и безучастные. Михаил отшучивался.
В средствах массовой информации поднялась шумиха. Девушку украл маньяк, а муж избегает контакта. Полиция уже ищет обоих. Мы передислоцировались в другое жильё.
Михаил что-то писал в своем блокноте. Он много писал. Но хотел писать мало. Один его рассказ стоил романа Куприновой «Ромашов на поединке».
Когда ввели налог на творчество, Михаил промолчал. Когда стали придираться к каждому слову, несущее «агрессию» и явные «гендерные признаки мужественности», Михаил не проявил активности. Даже когда намечался закон «на привлекательность», он сохранил спокойствие. Его скромный бюджет уходил на критические заметки, которые кормили его семью, не считая матери, она жила в Дарграде.
И вот теперь добавился налог «на вызов агрессивного воздействия по отношению к представительницам эволюционного развития». Михаил Морф платил за свое воображение, за свой талант, за красоту своей жены.
Последующие попытки маньяка связаться с Михаилом были через его родителей. Но предупрежденная мама, любящая мама, беззаветно преданная мама послушалась сына. Хотя невестку она все-таки любила.
Мне трудно об этом судить, потому что я не видел их единственной встречи.
Михаил еще тогда позвонил с моего второго смартфона «Шуйский», чему я был и смущен, и несказанно рад. Мать заперлась в квартире, благо, как намекал Михаил, она была очень экономной женщиной, способной выдержать безвылазно больше месяца. Опять же, ночью ведь не установишь патруль, как в фильмах?
Можно назвать это явление, явление молчания, маниакальным. Когда-то эту фразу мне сказал наш друг, Думбровский. Наркотики возвращают умерших. Мне же всегда нужно было с кем-то поговорить.
Однажды фразу моего покойного друга, выпрыгнувшего из восьмого этажа, я перефразировал Михаилу Морфу. Он не отреагировал в свойственной ему внимательной манере. Моргнул глазами – и все.
На следующий день, немного позже, чем рассчитывалось, к Михаилу уже подходили с записками, которые он, не читая, рвал. На горизонте наметились опера, сыскари, и прочие охранные структуры.
Невольно, он отстранился от всех, как будто отклонился ко мне и хотел что-то сказать. Но промолчал.
Преданные собачьи глаза людей оскорбляли мою природу. Я был в бешенстве. Меня бесило проявление этой заботы. Никто не понимал, почему так поступил Михаил. Никто.
Мария удостоилась шепота Михаила. Они, не имея места для секретов, первое время ютились у меня, на первой квартире. Кажется, он, как влюбленный мужчина, говорил лишнее.
В его черновиках встречал фразы «молчание как бунт», «дар как выражение». Мне нужно было спать. У меня была лишняя комната. Да, я подсматриваю хотя бы на том праве, что живут у тебя. А иначе как? Зачем писать, если не хочешь девочек и наркотиков? Зачем сдавать комнату друзьям, если не хочешь услышать, как они занимаются сексом или хотя бы выведать, что хранят их смартфоны.
Когда же к Михаилу подошли с устным сообщением, этот, Михаил Морф, ранее молчаливый и неуверенный, нанес самый уверенный удар слева. Человек пошатнулся. Михаилу пришлось убегать.
Я же все равно не мог сосредоточиться, потому что под воздействием «Княгини Мышкиной», очень сильного психотропного наркотика, не мог остановиться.
За эти трое суток я успел настрочить три рассказа и одну повесть, не считая рецензий и сообщений. Нет. Этот смартфон «Рюрик» был глушеный, мертвый.
Я включил память, которая, как оказалось, у меня была. Я полемизировал со всеми любимыми классиками Евгетии.
Мария Морф была из тех замечательных девушек, к которым относишься солидарно, потому что она не твоя и потому, что она не твоя, то есть, не интересна.
Что выбор Михаила, что его критические обзоры – это совсем разные Михаилы. В жизни и быте он был прост. В статьях дерзок и независим. В отношении к девушкам жертвенен и покорен.
Вначале возмущались, что насильник и маньяк остается безнаказанным. Потом говорили о замечательных качествах жертвы, той же Марии. Какой она замечательный музыкант, отличница учебы, ученица храма Дмитрии. Тут и исповедальник не избежал публичности. Восхваляли целомудрие Марии. Убеждали в психозе маньяка. И тут – о бесчувствии и бездушности мужа, который, как трус, прячется у очередной любовницы, у друга-гея (это было, видимо, про меня, хоть и неправда, да что уж), у кого угодно, и даже не пытается выйти на связь с полицией. Борис Берия ждет явки Михаила Морфа в участок.
И Михаил скинул мне одну запись, что, если выживет Мария, он напишет действительно хорошую книгу – «Дар бабочки».
К нам подбежала настырная девица или настырная девольвица. И взгляд Михаила говорил о просьбе. И я избил эту курицу с микрофоном, с ее репликами, с ее обвинениями.