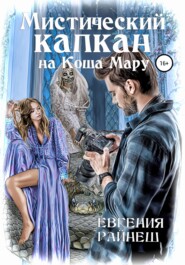По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Когда снега накроют Лимпопо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она посмотрела на свои босые ноги. Подчеркнуто, со значением.
– Почему ты все время ходишь босая? – вдруг дошло до меня. – Здесь целая батарея босоножек и шлепанцев Серегиной мамы. Судя по тому, что ее одежда тебе подошла, обувь тоже должна быть впору.
Тави покачала головой.
– Ты думаешь в верном направлении, но неправильно ставишь акценты. Подумай еще раз.
Я присел на одно из плетенных кресел, подумал. И понял.
– Тебе нужны твои башмаки?
Она прищурилась.
– Я не могу говорить об этом. Но ты не будешь так любезен…
Тави вздохнула и повторила:
– Я была очень милой с тобой.
– Какого черта! – до меня дошло. – Я думал, мы безумно влюблены, а не просто «милые друг с другом».
– Летавица не может быть влюбленной, – произнесла Тави, и я поперхнулся своим негодованием.
– Как ты сказала?
– Я – летавица, милый, – она с удивлением посмотрела на меня. – Неужели ты не догадался?
– Что значит – летавица? Впервые слышу, – на меня вдруг свалилась вся тяжесть мироздания.
И ощущение: сейчас Тави скажет что-то намного ужаснее, чем «была милой с тобой». В груди нарастал снежный ком, тут застывая нетающей льдиной.
– Это моя сущность, – непонятно объяснила она. – Вот твоя сущность – человек. Моя – летавица.
Она вдруг соскользнула с перил, одним движением плеча сбросила с себя легкий сарафан и осталась совершенно нагая. Невообразимо тонкая, фарфоровая, так и не загоревшая за все лето, и вся мерцала своим необыкновенным светом изнутри. А за спиной у нее развернулись прозрачные нежные крылышки. Как у стрекозы.
Я остолбенело смотрел на ее узкую спину и никак не мог понять: почему не замечал этих крыльев раньше? Мы спали в одной постели два месяца, я, казалось, наизусть знал все изгибы ее тела, но вот это… Что за морок был у меня на глазах? Или… Это сейчас морок?
– Ты – не человек? – растерянно спросил.
Осторожно потянулся, чтобы потрогать и убедиться, что крылья – настоящие. Она вздрогнула и отстранилась.
– Скорее всего, нет… Не уверена… Но… нет.
– А кто? – добивался я от нее.
– Летавица, я же сказала, – мои вопросы стали ее утомлять. – Давай вернемся к важному…
– Да что может быть важнее! – я повысил голос, забыв: Тави не переносит резких звуков. – Мне нужно знать…
Вдруг в голову пришло:
– Ты – фея?
Разговор становился все более абсурдным.
Тави покачала головой.
– Можно сказать и так. Да, давай остановимся на этом. Пусть – фея.
– Но… как… это… все?
Я неловко повел руками, словно пытаясь охватить ими и чудесный, прогретый солнцем дом, и веранду с уже нападавшей шуршащей листвой, и тропинку в тенистый мшистый лес, и дальнюю речку со скрипучим мостиком, и вообще все, все, все. Весь мир, в котором нам было бы так прекрасно… Так прекрасно… Если бы Тави любила меня.
Счастье закончилось вместе с летом. И с этим разговором. Я отдал Тави ее башмачки. Догадался, потому что, в отличие от нее, любил. А значит, читал ее желания, даже не произнесенные вслух. По намекам понял, что она отныне свободна от наших встреч. Но, несмотря на пустоту, поселившуюся во мне с того самого туманного утра на веранде, не стал держать женщину насильно. Как-то это… Не то чтобы недостойно… Мерзко, вот и все.
Хотя волком хотелось по ночам выть.
Всю зиму я просыпался, шаря рукой скомканные простыни, шел в душ под струи ледяной воды, уничтожая бесконечно счастливые сны, которые при пробуждении оборачивались кошмаром. Я завалил себя работой, только чтобы не думать о Тави, исчезнувшей из моей жизни так же легко, как и появившейся.
Но однажды – прошло уже больше полугода – она опять возникла. Впервые в моей квартире. Я вернулся тогда поздно, собирались с ребятами в баре по случаю счастливого воссоединения Славика и Лизки. Они подали заявление в ЗАГС, и это мы отмечали предварительно в дружеском кругу без бесконечных родственников, что прибудут на свадьбу.
В доме было пусто и темно. Я во мраке прошел в комнату, свет зажигать не хотелось, лунная дорожка, протянувшаяся от окна, таинственно мерцала сквозь колышущиеся занавески. Апрель выдался теплым, я оставлял форточки открытыми. Весенняя свежесть залечивала раны в моей душе.
Внезапно в темноте я услышал сдавленный стон. Сначала показалось, что звук доносится с улицы, словно пищит маленький потерявшийся щенок. Но стон повторился уже ближе и ярче, я щелкнул выключателем.
Внезапный свет резанул глаза, но я сразу увидел Тави, скорчившуюся в кресле. Она обессилено свернулась клубком, схватившись двумя руками за огромный живот, который ходил ходуном. Я с ужасом смотрел на темные пятна, покрывшие ее прекрасное фарфоровое лицо, и ладони, перепачканные красным – явно кровью.
– Тави! – закричал я. – Что?! Почему?! Ты ранена?
– Дурак, – вдруг выдохнула она, перекошенными от боли, синими губами. – Я рожаю.
Ноги подкосились, я сел прямо на пол и глупо спросил:
– Как?
– Каком кверху, – эта фраза совсем не вязалась с моей нежной, воздушной Тави, но и вся эта ситуация совершенно не вязалась с ней.
Она опять охнула, а потом вдруг резко взвизгнула:
– Да сделай же что-нибудь! Мне больно! Из-за тебя все…
– Скорую нужно… – растерянно пролепетал я, не решаясь подойти.
Она билась то ли в родовых схватках, то ли в истерике. Легкий сарафан сполз с ее плеча, светились нежные крылья. Что я скажу врачам про них?
– Ну да, – сказал я. – Но как… У меня… Блин, Тави, я не знаю, что делать. Не умею.
– Научись! – совсем не волшебно гаркнула она.