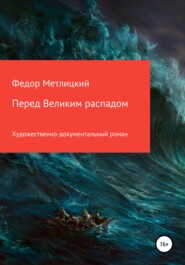По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Путь Сизифа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Жене стало веселей, когда увидела меня.
– Ну, что ж, – сказал удовлетворенный Учитель. – Итак, следующий урок: уходим от общего коллективного мышления в мышление отдельной личности. В стиль личности. Личность – это не фотографическое видение мира, а эмоциональное – изнутри. Мироощущение – это страсть.
Чтобы стать личностью, – оживился он, – надо воспринимать мир не "коллективным глазом", перестать употреблять шаблонный язык, затертый поколениями говорящих одно и то же. Шаблон уводит от истины. Все понятия приблизительны – перед бездной. Поэзия – это раскрытие бездны. Надо перестать равнодушно смотреть на голую натуральность, возвратить ей излучение и тайну.
– А если кто не умеет? – раздражился Матвей. – Что тогда делать?
– Тоталитаризм внедряет в сознание конформизм, ведет к набору коллективных автоматических действий. Прежде всего, – волхвовал Учитель, – надо ощутить свое нутро, вырывающееся из сингулярного одиночества на свободу в безграничность вселенной (первые уроки, как вы помните), – без этого невозможно вырваться из банальности окружающего мира. Собственный взгляд на мир рождает оригинальный язык. Этот язык покажется косноязычным, нелепым, но в нем и будет жить ваша страдающая душа.
– Литература – это война с языком, – подтвердил я. – Хорошие стилисты очищают душу.
– Искусство не роскошь, а последняя линия обороны в борьбе за жизнь. Творец один против всех. Мы гости и исследователи в этом странном мире. Беспредельная свобода сознания дает нам возможность овладеть бездной.
– Кем вы себя ощущаете? – вдруг спросил Учитель. – Какой национальности?
Матвей удивился:
– Я? Русский. Все вокруг суверенное, родное.
– А как иначе? – согласился Петр.
Учитель вздохнул.
– И я тоскую по своей суверенной родине. Как давно ее не видел!
– А я ощущаю себя человеком мира, – сказал Марк. – Нет во мне какой-то особой родины. Родина там, где мне хорошо. Это те небеса, куда мы стремимся.
– И я человек мира, – поддакнул Юдин.
Учитель обратился ко мне.
– А вы?
– Кем я себя чувствую – русским? – размышлял я. – Наверно, не немцем, и не американцем, там вижу себя иностранцем. И – не хохлом, они ближе, но там повторяется то же, что мы прошли после революции. Люблю их густой метафорический язык. Да и сам украинский язык – это яркая личность. Но и Россия… Я внутренне не склонен к ее, так сказать, кипящей поверхностной пене. Хотя в глубине, в складках натуры народа, выработанных веками, чувствую приятие. Примерно, такое:
До вечера проходит время быстрое –
Дел нерешенных, нервных, и без сдвига,
И – я открыт милейшим бескорыстиям
О древнерусской живописи книги.
Там открывают воздуха санкири
И панагий заветные даренья,
И я в златом и не погибшем мире,
Не выжженным татарским злом забвенья.
– Вот видите! – восторженно сказал Учитель. – Слово, сказанное личностью, имеет магию. Особое расположение слов, настроение в стихах завораживает, уносит в те состояния, в которых пребывал поэт. Так, в любых языках, приоткрывается подлинная истина. И каждый язык приоткрывает истину с разных сторон.
Учитель, видимо, видел во мне что-то большее, но я уже знал себе скромную цену.
Матвей не понимал.
– Это значит – мириады языков? Никто не будет понимать друг друга. Народ давно разговаривает единым языком – языком газеты.
Учитель рассказывал об особенностях разных языков. Вот украинский язык обладает страшной метафорической емкостью, гоголевской хуторной домашностью, вбирающей что-то коренное народной души. У Тараса Шевченко по-русски: "Не забудьте, помяните/ Меня добрым словом…", а по-украински: "…незлим, тихим словом". Это не «добро» только, а что-то более интимное, католическое, просящее, молитвенное, как у Гюисманса. Не наше торжественное православное, забывающее о подлинных земных болях паствы.
И говорил о европейских языках, лишенных славянской широты и тепла, хотя под сухостью языка их классиков таятся такие глубины, куда страшно заглянуть.
– Но копнем глубже. Возьмем философскую сторону проблемы личности.
Учитель прочитал целую лекцию. Есть два понимания личности, усвоенные как истина несколькими поколениями. Трагедия «лишнего человека» – от Онегина до Обломова – объяснялась невозможностью общественного служения в условиях скверной действительности. А для литературы XX века, начиная с Горького, вовлеченность каждого, именно каждого человека в круговорот исторических событий является фактом непреложным. Главным выступает историческое время, и герой вынужден самоопределиться в отношении к нему.
Для меня эта градация была впитана с детства, и я не мыслил иного, чем быть в обществе и бороться за общие цели справедливости.
– Оказывается, – неожиданно повернул Учитель, – кроме нашего привычного понимания немыслимости жизни вне общества – существует и другая, расстрельная точка зрения. Для модерниста Набокова сама мысль об общественном служении или социальном пафосе литературы кажется кощунственной и недостойной искусства и художника. Если Чехов объясняет трагедию Ионыча тем, что жизнь прошла мимо, не затронув и не взволновав, – для Набокова здесь не может быть трагедии, ибо куда важнее внутренняя жизнь личности и субъективное ощущение счастья и состоявшейся жизни. Это иной подход. Марксизм возводил конкретное в абстрактное, а Набоков, наоборот, от абстрактного шел к конкретному, индивидуальности, личности. Мир обращается в мираж.
– Куда смотрят Органы? – прервал возмущенный Матвей. – И Роскомнадзор?
– Для вашего сведения, этого нарушителя закона о противодействии оскорблениям власти уже не привлечь, он давно умер. И у него взаимосвязь личности с историческими событиями выявляется с ничуть не меньшей остротой и драматизмом, чем у наших классиков.
– Как это? – удивился Марк. – Этот отъявленный индивидуалист?
– Его крыли все гуманисты, в том числе русского зарубежья, за разрыв с традицией. Герой Набокова, мол, просто не знает, что такое любовь. Страх отдать хоть каплю собственной индивидуальности другому человеку, страх пойти на подчинение себя предмету своей любви заставляет Набокова и его героя вообще забыть о любви. Почему? Прежде всего, потому, что любовь всегда таит в себе предательство, и человек, способный отдаться этому чувству, – погибший человек.
Похоже, так и есть, думал я. Учитель объяснял, что в центре набоковского романа может быть даже преступник, убийца – Гумберт Гумберт («Лолита»), который не встречает нравственного осуждения писателя, что приводило в отчаяние первых критиков. Но он интересен Набокову тем, что своим преступлением и своей безнравственностью противостоит внешнему диктату, пусть и в страшно уродливой форме – форме преступления.
Суть в том, что набоковская любовь к человеку связана с утверждением его права быть самим собой, без оглядки на кого-то, с уважением к личности. И с этой точки зрения Набоков был как раз русским писателем! В сущности, он отстаивал суверенитет частного человека, пытаясь своей судьбой, литературным и личным поведением показать возможность сугубо индивидуального бытия и в XX веке, когда, казалось бы, скверная действительность оставляет личности все меньше возможности для этого. Это продолжение и развитие глубинных основ русской литературной традиции с ее уважением к личности – с ее той самой любовью к человеку, которой так не хватало критикам Сирина.
Учитель заключил:
– В наследии Пушкина он нашел для себя завещание внутренней, тайной свободы и остался верен ей в литературе и в действительности, отрицая саму идею свободы внешней, социальной.
Меня поразило то, как объяснял Учитель. Я всю жизнь боролся с собой – именно в этой точке. Смутно знал, что я индивидуалист, норовлю влезть в общество с ногами, но прыгаю вокруг да около.
"Еще безмолвствую – и крепну я в тиши", – уверенно писал о своей юности Набоков. Только я не креп, а не созрел до сих пор. Боялся аборигенов на краю земли, занятых путиной, и своими бочками с соленой горбушей и икрой в оболочке, а в армии – некоего Васю Теркина в вонючей казарме, ядовито ерничающего: "Вот ты, профессор, скажи: отчего корова серит лепешками, а коза горошками?"
Вернее, это был не страх, а желание отстоять свою особость. Это не значит, что презирал людей! Нет, это было охранение моей личности, чего-то тайного, что нельзя обнажать никому. Мою искренность не поймут. У всех своя жизнь, всегда буду лишним для посторонних людей. Такова жестокость жизни.
Я жил духовно отдельно от внешней среды. А мир мой был – близкие люди, океан, утесы, куда я взбирался, чтобы смотреть в бездну, где океан слит с небом. Но люди забывают о небе, океане и утесах, тратя время на добычу пропитания и развлечения.
Да что говорить, разве не все мы живем отдельно, по принципу Набокова? Вон, наша соседка по квартире добрейшая 90-летняя Катя сидит одна в квартире (дети переженились и разъехались), переживает собственные недомогания и тревогу за детей, и ничего не знает о тревогах внешнего мира, даже фамилию президента. Да и сами граждане нашего общества, надо признать, отнюдь не отличаются от других народов, – те еще индивидуалисты. Взгляните, как ведут себя люди в быту. Отъявленные эгоисты, похлеще Набокова!
Но, вот что странно, мы не хотим принять Набокова. Общество не принимает персону-нон-грата, как Овидия и Данте. Однако кто изгоняет? Общество, или те, кто делит дивиденды?
Но я сопротивлялся такой свободе личности Набокова. Нет, не туда он идет, нам не по пути!
Меня вернул к беседе Матвей:
– Это черт знает, что! Жить в обществе, и быть свободным от общества нельзя.