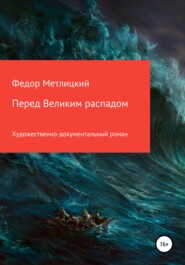По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Родом из шестидесятых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что во мне за кровь? Кавказская? Нет, русская, часть хохляцкой, и даже джурдженей (у дальневосточной прабабушки по матери, по легенде, был любовник джурджень)?
И я буду изменять ей, отомщу! Хотелось встретиться с тем, первым, изуродовать его.
Прекрасное тело ее казалось для меня проклятым. Измена – вне времени. Я стал понимать средневекового инквизитора, ненавидевшего женщин, исчадие греха.
Где моя чистая любовь? Теперь ее никогда не будет. Как я мог? Так нелепо испортить жизнь!
Меня корежила мука разрушения самого сокровенного, что хранил в душе. Наверно, все мое существо ждало того единственного света, что излечил бы меня от "замороженности" предков. Я впервые беззащитно открылся до конца, той первозданной чистотой, еще до вселения в меня замороженных генов предков, и словно в чудесном сне вдруг нанесли удар ножом.
Как мог так открыться, ведь в реальной жизни не бывает того идеального, для чего был рожден.
Что это за боль? Что такое потерянное счастье? Загадка.
Бродил всю ночь, разжигая себя, и думал о неудавшейся жизни.
Наверно, дело не в измене. Дело в том, что моя судьба потерпела крах. И чтобы это объяснить, понадобится рассказать обо всей моей жизни.
Вдруг опомнился, представил ее, босиком. Где она бродит, или вернулась домой?
И повернул назад.
3
Отторгнутый от всего мира, я забрел в редакцию журнала «Книжное обозрение". Там, в редакции, со стенами исписанными автографами великих писателей и не очень, болтали мои приятели, в основном еще с университетской скамьи.
Всегда занятый, углубленный в бумаги, главный редактор Костя Графов, от него отдавало спиртным, как будто это его запах от природы.
Нечаянно выдающий остроты Юра Ловчев, обаятельно юркий, и смирный интеллигентный Гена Чемоданов, оба из журнала "Молодая гвардия".
Толстый крепкий Матюнин – из ЦК ВЛКСМ.
Степенный маленький Коля Кутьков, поэт, с томом Николая Клюева подмышкой, издавший тонкую книжку стихов.
Литературный критик колченогий Толя Квитко, которого звали Байроном.
Худой и высокий Разумовский, или Батя, со староватым лицом и хищным носом, из презрения к Системе работающий в котельной.
Жизнь активна до безобразия даже при тотальном подавлении. Откуда-то прорастает новая свободная литература и искусство в среде безликих партийных журналов и газет. Тогда собирались кружки инакомыслящих, литераторов, художников-авангардистов, – на квартирах, в подвалах и на чердаках… Их гоняли, арестовывали, выдворяли за границу.
Наш круг собирался в журнальчике, не выделявшемся среди других государственных изданий. Меня тянуло туда, из мучительной потребности вырваться из неразделенной любви.
Менее пуганые, чем старшие, мы были дети "оттепели", жили ее поэзией, запрещенной литературой, в том числе диссидентов-зэков, доходящей до нас в «самиздате». Думаю, что на нас сильно повлиял первый полет Гагарина в космос. Вспомнил, как мы с приятелями, еще студентами, в людской реке вдоль всего Ленинского проспекта встречали весь в цветах кортеж, где ослепительно улыбался Гагарин. Голос Левитана на всю Красную площадь, многократное "ура!", разноцветные плакаты: "Космос – наш!" Нездешняя чистота московского воздуха и растворенная в нем человеческая радость, как писали газеты. Невозможно было узнать раньше брюзжавших людей. Грубые лица работяг тянулись к ослепительно улыбающемуся лицу с таким восхищенным вниманием, какого не предполагали в себе раньше. Объятия, поцелуи песни, водовороты плясок. Солидные люди на крышах, на деревьях. Кто-то с цветами продрался сквозь толпу и вручил их Гагарину (сейчас нельзя этого представить, снайпер снял бы в мгновение ока).
Толя Квитко со слезами на глазах клялся: "Пока не увижу Юру, не уйду!" Батя нес изготовленный им самим плакат: "Радость какой измерить меркой? Завидуй, Америка!", и под маркой всеобщей радости целовал какую-то красавицу взасос.
Программы телевидения полетели к черту, ТВ, как пьяное, перешло к чистой импровизации – такого еще никто не видел, и больше не увидит.
К глазам подкатывали слезы. Казалось, стала доступна вся вселенная, и мы быстро освоим ее!..
Но, странно, быстро привыкли. Когда позже наша ракета облетела Луну, рабочий автозавода добродушно сказал: "Летит? Ну и х… с ней, пусть летит". Это не касалось его жизненных интересов. Но в нас полет первого космонавта осветил будущее каким-то безграничным лучом света.
____
Заканчивалась оттепель, поднявшая волну «шестидесятников». Литературная жизнь снова вошла в привычное русло, дневала и ночевала на всесоюзных ударных стройках. Газеты писали: «Самое лучшее, что есть в человеке – радость творческого труда… когда видишь прокладывающего борозду – этот человек прекрасен». Воинственно отмечали подошедшее 50-летие советской армии и ВМС, по-ницшеански вознося солдата-сверхчеловека. Поэты-романтики оставляли «автографы комсомола на планете» – на фестивале молодежи.
Во мне не возникало такого чувства. Откуда они выжимают источник вдохновения? Из героизма на прошедшей войне? Но это другой источник – войны, а не мирного времени. Это надо же уметь перебрать в душе все постоянно употребляемые струны и найти струну, замаскированную под свежую и новую!
Мы тогда не спорили – можно ли жить и работать в нынешней структуре власти и быть честным, или нельзя обустраивать тюрьму. Вопрос так не стоял, ибо деваться из земной юдоли можно было только на тот свет. Все жили в тюрьме и обустраивались в ней. Это было во все времена. Если бы не выходили из любого положения, человечество бы не развивалось.
Раньше я не находил никого, родственного духу, кроме, конечно, умерших классиков XIX века, и диссидентов, изумляющих совсем другим взглядом на нашу жизнь. Но сейчас открылось, что я нашел живых близких людей, и почему-то среди них становился расслабленным, благодушным, наслаждаясь их дерзкой независимостью. Мой романтизм, раненный ужасной реальностью, был и у них. От этой жуткой реальности мы хотели улететь.
____
Юра своим подбирающимся к собеседнику говорком рассказывал о кружке заговорщиков в университете. Его приятель в 53-м поступил на филфак, в 57-м поперли. Он был в кружке, которым руководил один профессорский сын Колька. Устав был, программа. Узнали: Колька в КГБ имеет кого-то, и у него признали расстройство головы. Два месяца в Матросской Тишине, и снова в университет. Другой главарь – три года отсидел.
– Что там, Ницше читали? Шопенгауэра? – загоготал Батя. – Может, еще биографию Евтушенко?
– Нет, "Доктора Живаго".
Гена Чемоданов спросил:
– Это карманную книжку, изданную там без реквизитов издательства?
– Нет, отпечатанную на машинке, на папиросной бумаге.
Поносили руководство родного университета.
– Страшный маразм! Консерваторы. Вот был профессор Бонди – это да.
– Услышишь Бонди, станешь на всю жизнь бондитом! – ржал Батя. Колченогий Байрон кричал:
– Милославский? Подонок! Все лез в секретари комсомольской организации, и никто его не заблокировал.
– А помните всегда споривших правоверных доцентов Ухова и Нахова? – влезал Батя. – Нахов Ухову сказал, Ухов Нахова послал.
Вспоминали о протестах в мире. Костя восхищался Антониони, коего интервьюировал ловкий, могущий пройти между капель Генрих Боровик. Тот делает фильм о молодом протестующем поколении американцев. «У них протест глубже, чем у англичан, но – нет отчаяния».
Ощущение, что мои приятели тоже не выносят застой, в какой-то мере облегчало мою безысходность.
Правда, они тоже не знали, что хотят найти.
Как обычно, спорили о литературе.
Толстый Матюнин авторитетно высказывался:
– Чехов крыл Тургенева за "Отцов и детей", а сам своего фон Корена оттуда взял. Сейчас уже ясно видно, в чем нетипичен Базаров, где авторская выдумка не обобщает. Тургенев хотел показать новое мироощущение, сам сомневаясь – нужна ли поэзия, Пушкин, любование природой. Сейчас уже знают, кто такие рационалисты.
– А вот Лев Толстой оценил женщин Тургенева, – возмутился я. – Таких не было в жизни, но они стали после его романов.