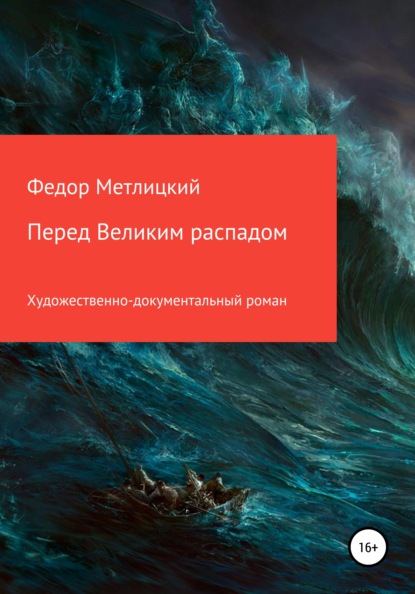По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Перед Великим распадом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Грандиозное опустошение человечества – оттого, что отбрасывается тысячелетняя религия, но нет ей более глубокой замены, и это грозит ей исчезновением. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю. Нужно изменить представление о грядущем счастье как изобилии, дай бог выжить в суровых условиях.
Интересно, что он-то писал заявления в защиту жертв гонений диссидентов.
Профессор Турусов из президиума успокаивал шумящий зал:
– Философ Константин Леонтьев утверждал, что Россия никогда не была славянской, держалась византийским порядком и чувствами. Своей уникальной культурой обязана естественному сплаву идей Запада и Востока. Неразрешимая дилемма – централизация и демократизм. Решение у нас всегда в пользу первого, поскольку исключается возможность национального обособления, ведь, империя распадется. Без идеи централизации не будет российского государства.
Среди нас заворочался тяжелой тушей одутловатый диссидент Марк:
– Наш человек ни в чем не заинтересован – не несет никакой ответственности. Петр Первый гнал народ дубиной к счастью. Деспотизм и рабство – так до сих пор решаются проблемы.
– Сопротивление было! – встала из середины зала екатеринбургская историк-архивист, бывшая лагерница, маленькая седая, и вышла на трибуну.
– Огромное сопротивление, не только спрятанное в той массе репрессированных, не сдавшихся генной порче, но и в массе народной, жившей своим, отделенным от официозного. И сейчас, за модными изображениями бодряческой тупости и жестокости, существует не замечаемое доброе, открытое. Да, вы черните народ. Надо четко определить, от чего отказываемся? От разрыва слова и дела. Если общество провозглашает принципы (народ – высшая мера, и т. д.), а на деле не следует – значит, разрушает себя.
От ее слов все возбудились, кричали из зала:
– Варламу Шаламову ничего не дал лагерь. Не верит в литературу, поскольку гуманизм привел к ужасу столетия. Сейчас все, что выходит за документ, является ложью!
– Шаламов исходит из своего экстремального опыта, из опыта казнимого человеческого тела. Сколько жутких истин видится – с креста – о человеке, на дне падения! Но полная ли истина здесь пронзительно обнажается? Софокл прожил жизнь счастливо, но его истины прошли тысячелетия.
Седую правозащитницу сменил на трибуне осанистый доктор филологии из Института гуманитарных исследований. Вскидывая голову с разваленной по обе стороны головы шевелюрой, предупредил зал внизу о все белее угрожающей опасности, уже не от природы, а от общества. Человек в борьбе с природой победил, и оттуда возникли новые опасности: стал рабом уже не природы, а общества. Не хотят люди «начинать с себя». Идет борьба за выживание личности.
В президиуме профессор Турусов мягко поправил:
– Социализм рожден темным народным подъемом немедленно всего добиться – саблей. Потом народ прозрел, но аппарат насилия у бюрократии уже сформировался. Кровавые тридцатые объясняются борьбой бюрократического сталинизма с «народным сталинизмом» Кирова, Орджоникидзе и других. Были годы победы ленинской позиции потеснения бюрократизма: НЭП, решающая борьба в 29-м году, в годы войны реализм побеждал сталинизм, а XX съезд КПСС, а 85-й год… История нашей страны сводится к истории сталинизма. Ее содержание – борьба двух тенденций: бюрократически-сталинистской и демократически-социалистической, и реальное состояние общества было результатом этой борьбы. Так что, неясно, что создали. Сначала, надо описать, а потом приклеивать этикетки.
В зале молодая учительница звонким голосом прокричала:
– Все валим на Сталина! А для меня это глубокая история. Сами во всем виноваты – в растлении души. А ищем корни в Сталине, не хотим признаться. Главный стопор перестройки – в психологии людей. И хватит искать, кто этим манипулирует.
Вызывало сомнение само понятие «народ». На трибуне участник нашего Движения литературный критик, лысоватый, с выдающейся вперед бородкой, похожий на Сократа, острым взглядом окинул зал.
– Георгий Федотов писал: нация – не круг с точкой в середине, а эллипс с двумя центрами. Национальный характер может быть истолкован с разных точек зрения.
Серьезный писатель-фронтовик из переднего ряда прогудел саркастически:
– Это понятие относительное – когда надо, говорят: «По просьбе народа», а в иных случаях, когда народ требует, – не хотят! Не хотят раскрывать старые захоронения: где палачи? У партаппарата – оборонительные приемы: критика в свой адрес – это критика партии! Странное упорное нежелание расстаться со своим прошлым. Страх до сих пор, инстинктивное чувство перестраховки, как бы чего не вышло. Этот пласт, опора прожитой жизни – не даст осуществить грандиозную перестройку!
Композитор-фольклорист с добрым улыбчивым лицом, мощный, усатый, с волосами до плеч, рокотал:
– В угоду официальной линии адаптировалось искусство, наука, все сферы. Сейчас искусство, феномен зачаровывания, не останавливает ни от чего – ни от агрессии, ни от ярости. И музыка приобрела искусственное направление с ярлыком «народное». Это отбросило искусство на 100 лет. Для меня фольклор – музыка с более высокой технологией. Народные песни энергичны, для стрессовых моментов. Фольклор не умер, иногда умирает и вновь возникает. Люди стремятся «на землю», а значит, может вернуться их быт. Но может быть разрыв между городом и народной культурой.
Я считал, что народ, вернее население данного периода выражается в настоящем – спорах и драках партий, политиков, средств массовой информации, и это совсем не тот святой народ, что осел у нас в памяти от чтения классиков старой и новой культуры. Население живет земной жизнью времени, не понимая, куда его ведут.
Вышел к трибуне французский политолог, лысый еврей с отвислой нижней губой, успокаивая зал, осторожно обрисовал ситуацию в мире:
– Раньше противостояние обеспечивало мир. Сейчас конфликты обнажаются и разворачиваются. Соотношение уже не сил, а слабостей. Запад не располагает силами влияния и контроля. Универсальные права людей приобрели необычайную актуальность благодаря революции в средствах коммуникации. Возникли силы доверия и мировой солидарности. Оборотная сторона – агрессивность либеральных демократий по отношению к иным режимам. Не повлекут ли страсти обострение индивидуального и социального насилия, компенсируя утрату роли войны?
Как это верно! – соглашался я по поводу каждого выступления. Все еще был внушаем – верил одному оратору с, казалось бы, неопровержимыми мыслями, и тут же другому, тоже неопровержимо доказывающему противоположные мысли.
Мне понравился худенький академик Петлянов, с остренькой бородкой и в шапочке философа, член Совета Движения «За новый мир», которого прочили на звание «совести эпохи». Несмелым голосом он защищал философию непрерывного творения.
– Иисус возносил «употребляющих усилие» для восхищения Царствия небесного. Большая часть человека – вне его, он в становлении. Он – это постоянное усилие стать человеком, состояние не естественное, а творящее непрерывно, и культура – это не «знание», а усилие и одновременно умение практиковать сложность и разнообразие жизни.
Все наши трудности академик объяснял так: человек не может выдержать себя, а не другого, страшится, что у него там, внутри. Это ведет к войне, погрому, революции.
Это было и мое стремление – выйти за изгородь обыденного застойного сознания. Много в мире накоплено опыта и знаний, но они находятся в разобранном виде, неодушевленные, и оживают лишь в каждом отдельном человеке, который собирает и одушевляет их, наполняя своим смыслом. Только через отдельного человека оживает мир, и рождается свой собственный взгляд. Но трудно отличить в спорящих, кто собрал и оживил мертвый материал опыта и знаний поколений, а кто выдает чужое за свое, не предлагая иных убеждений, кроме внушенных пропагандой. И сознавая, что не умнее, мстительно набрасывается на инакомыслящих. Только осмысленный, оживший опыт поколений делает личность, идущую своей тропой.
Академик обрушил мою веру в бессознательное, лишь в котором истина, четкой фразой:
– Двадцатый век смешал все карты, это век чудовищного отвращения мыслящих людей к сознанию. Самое важное – восстановить историческое сознание.
Как же так? Слова академика сделали незначительными то, что высказывали выступающие, заставили задуматься. Вот, только что усатый композитор-фольклорист с добрым улыбчивым лицом говорил, а я даже записал: «Древние греки верили, что искусство останавливает. Они предпочитали монодическую музыку, одноголосую, то есть связанную с вокалом, органикой человека, более близкой, чем пианиста, который через механику доходит до струн. Я хочу снять автоматические навыки школ, вернуться к источнику – древнегреческой мелопее, использовать отвергнутые возможности. Убить в себе опыт, вернее, реально от него отказаться. Как живописцы переходили на простейшие вещи. Найти прямой контакт с мозгом – для этого нужен гипнотизм».
Это было что-то близкое мне. Сам этого хотел – очистить наносное в себе, вникнуть в природную суть, влекущую в иные состояния, где и н? жил. Уйти из обыденного сознания, утробно произносящего то, что вбито в голову.
«Утро красит нежным светом Стены древние Кремля…» Почему народ жил этой сказкой? Почему авторы создавали это? Потому же, что и Твардовский со своей поэмой «За далью – даль» о той Сибири, как вечной новизне. А она на самом деле может стать экологической бедой, где новые хозяева жизни натворят черт знает что. Это вечный отрыв в небеса. Жуткая реальность хочет улететь, романтически. Да и безопаснее это – подальше от реальности.
Было страшно – если исчезнет моя уверенность, что мир – это «родина всех», то во мне ничего не останется. Я считал рациональность, науку – созданием сознания человека, вообразившего, что он может описать объективный мир. Все научные мысли, теории, концепции – это попытки субъективных описаний модели одного и того же, бесконечно сложного и неделимого. Наука – это и бессознательное, и сознательное создание – всей жизни, всей истории.
Мне всегда хотелось вознестись в безгранично близкое, в оттенках переживания, не определимых словом, как счастье. Не ощущал неподвижного мира – в полете истина! Я был одинок, как любимый мной Бердяев. Считал, что мое – чуждо всем.
Как и многие молодые романтики, пытался писать стихи, как торжественную мессу, подобно Аллену Гинзбергу (увлекся этим американским поэтом). Но выходило декларативно, вычурно. Понимал, что способен возноситься лишь в состоянии влюбленности, при виде новых мест, на природе, смутно чувствуя радость, хотя весь погружен в обыденное.
Любимый профессором Турусовым философ К. Леонтьев уверял, что мораль может держаться только на вере в вечность, в высшие ценности. Идея всеобщего блага – пустое отвлечение мысли, мираж, суеверие на почве уравнительного благополучия. Добро, любовь не бывает отвлеченным, нужен адрес. Человечество не имеет адреса, там рассеивается любовь и добро, происходит нравственная энтропия.
Озадачивали слова этого философа: идеи гуманизма – иллюзия. Всеобщего счастья не ждите, всем лучше не будет. Адрес имеет только отдельный человек. Его колебания радости, горести и боли – такова единственная возможность гармонии на земле. И – всему есть конец. Надежда человека – в своеволии мысли. Лгущую жизнь должен опровергнуть разум.
Теперь я понял: познать глубину реальности – дело неподъемное, но именно в неподъемном – глубина реальности. Гегель писал: абстрактное мышление свойственно в основном невежественным людям: чем культурнее человек, тем конкретнее его мысль.
Надо ясно увидеть себя, все тяжелое занудство работы, и тайное, как во сне, отчаяние, страх за судьбу дела. В конце концов, не на нем только весь мир стоит.
____
После конференции я отвозил на своем «жигуленке» домой худенького академика Петлянова.
– Осторожно! – дернулся он в ремне безопасности.
Когда-то он пережил дорожную катастрофу – отказали тормоза его автомобиля, и еле спасся. С тех пор сам никогда не управлял машиной.
На сухом лице его было равнодушие мудрого старика, кому уже ничего не нужно. Умерли близкие, жена. Он устало говорил удивленно внимающему пацану о тщете экологических начинаний. Предлагал Комитету по ленинским премиям присудить работникам химфабрики, которые придумали замкнутый цикл производства, а академик Марчук, председатель Комитета, сказал: население жалуется. И не дали премии, а значит, не финансировали сомнительное дело, и теперь фабрика отравляет все по-прежнему. Она окончательно перекодировала окружающую природу, погубила ее.
Я довел академика до квартиры в блочном доме. Квартирка была маленькой, с простой мебелью и большим столом с рядами разных геологических камней. На стене висела историческая картина художника Репина.
– Сам подарил, – сказал академик, задумчиво глядя на картину. И стал ворчать:
– Дети… Повисли в воздухе, и не знают, что все это кончится одним – победят те, кто завладеет госресурсами и властью. И все мечтания обрубят в один миг.